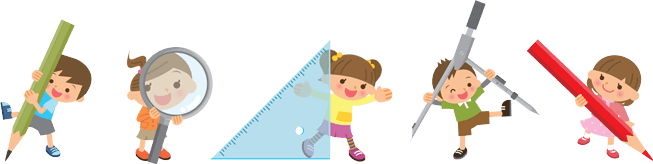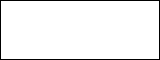Хрестоматия для 10 - 12 классов (для пенитенциарных учреждений)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики
«Республиканский центр образования молодёжи»
(КОУ УР «РЦОМ»)
Хрестоматия
для 10 - 12 классов
(для пенитенциарных учреждений)
Автор-составитель:
учитель русского языка и литературы
Стрелкова Екатерина Александровна
Введение
Основу хрестоматии составляют те художественные тексты, которые помогают дополнительно
раскрыть обучающимся творчество писателей конца XIX - начала XXI веков. Она предназначена для
обучающихся 10 — 12 классов пенитенциарных учреждений, т.к. для многих обучающихся сложно
воспринимать обьемные по содержанию произведения. С некоторыми произведениями, включенными в
хрестоматию, обучающиеся не были знакомы, когда обучались на уровне основного общего
образования.
Хрестоматия позволяет составить общее впечатление о развитии литературы в изучаемый период
(в конце текстов проставлена дата написания произведения писателем, чтобы соотнести, в какое время
описываются события) и может быть использована как непосредственно во время занятий, в процессе
написания сочинений, кроме этого, для закрепления знаний, а также тексты могут использоваться, как
раздаточный материал.
После каждого текста есть небольшое задание, благодаря чему обучающиеся не просто читают
произведение, но и анализируют его. Хрестоматию можно использовать при подготовке к
государственной итоговой аттестации для анализа текстов, написания сочинений.
При подборе произведений для дополнительного чтения составитель руководствовался целью
привития интереса к русской классике, т.к. многие сюжеты произведений близки обучающимся,
заставляют их поразмышлять над духовными ценностями человека, пережить с героями трудные
жизненные ситуации, а также поразмыщлять над решением выхода из сложившейся ситуации или
обстоятельства.
Произведения в хрестоматии подобраны с учетом возрастных особенностей, уровня читательской
подготовленности и восприятия обучающихся.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 — 1889) «Богатырь»
В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила, и
когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре
стороны: «Иди, Богатырь, совершай подвиги!»Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит,
один дуб стоит — он его с корнем вырвал; видит, другой стоит — он его кулаком пополам перешиб;
видит, третий стоит и в нем дупло — залез Богатырь в дупло и заснул.Застонала мать зеленая
дубровушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам
леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами — и был таков.Пошла слава про
Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него: свои боятся вообще
потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А, сверх того, и надежда есть: беспременно
Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш
Богатырь и нас перед всем миром воспрославит». Чужие, в свой черед, опасаются: «Слышь, мол, какой
стон по земле пошел — никак, в „оной“ земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда
проснется!»И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»
И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала, да наконец и
приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика,
покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик! Всё приделали, всё прикончили, друг дружку
обворовали начисто — шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце
глядит да перекатистые храпы кругом на сто верст пущает.Долго глядели супостаты, долго думали:
«Могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле
спит!»Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз
насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам.
В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря
погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье
наше!» А он, вместо того, в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило:
думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он, вместо того, в дупле просидел. В таком-то
году и города и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева; думали:
«Вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит» — а он и тут в дупле проспал.Словом сказать, всю
тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не
шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.
Что ж это за Богатырь такой?Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру
великую и неослабную. Плакала — и верила; вздыхала — и верила. Верила, что когда источник слез и
воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та,
которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И
прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил — воняет; другой
подошел — тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» — молвили супостаты и ринулись на
страну.Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за
тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое
безвременье, кинулись навстречу супостату — глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про Богатыря, и в
один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»Тогда совершилось чудо: Богатырь не
шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце,
но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая
дубровушка.Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком — смотрит, ан у
Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.
Спи, Богатырь, спи!
1886
Задание:
1. О чем сказка?
2. Какие проблемы раскрывает автор сказки?
3. Есть ли скрытый смысл в сказке, если да, то какой?
Антон Павлович Чехов (1860 - 1904) «Суд»
Изба Кузьмы Егорова, лавочника. Душно, жарко. Проклятые комары и мухи толпятся около глаз
и ушей, надоедают... Облака табачного дыму, но пахнет не табаком, а соленой рыбой. В воздухе, на
лицах, в пении комаров тоска.Большой стол; на нем блюдечко с ореховой скорлупой, ножницы,
баночка с зеленой мазью, картузы, пустые штофы. За столом восседают: сам Кузьма Егоров, староста,
фельдшер Иванов, дьячок Феофан Манафуилов, бас Михайло, кум Парфентий Иваныч и приехавший из
города в гости к тетке Анисье жандарм Фортунатов.
В почтительном отдалении от стола стоит сын Кузьмы Егорова, Серапион, служащий в городе в
парикмахерской и теперь приехавший к отцу на праздники. Он чувствует себя очень неловко и
дрожащей рукой теребит свои усики. Избу Кузьмы Егорова временно нанимают для медицинского
«пункта», и теперь в передней ожидают расслабленные. Сейчас только привезли откуда-то бабу с
поломанным ребром...
Она лежит, стонет и ждет, когда, наконец, фельдшер обратит на нее свое благосклонное
внимание. Под окнами толпится народ, пришедший посмотреть, как Кузьма Егоров своего сына пороть
будет.
— Вы всё говорите, что я вру, — говорит Серапион, — а потому я с вами говорить долго не
намерен.
Словами, папаша, в девятнадцатом столетии ничего не возьмешь, потому что теория, как вам
самим небезызвестно, без практики существовать не может.
— Молчи! — говорит строго Кузьма Егоров. — Материй ты не разводи, а говори нам толком:
куда деньги мои девал?
— Деньги? Гм... Вы настолько умный человек, что сами должны понимать, что я ваших денег не
трогал. Бумажки свои вы не для меня копите... Грешить нечего...
— Вы, Серапион Косьмич, будьте откровенны, — говорит дьячок. — Ведь мы вас для чего это
спрашиваем? Мы вас убедить желаем, на путь наставить благой... Папашенька ваш ничего вам, окроме
пользы вашей... И нас вот попросил... Вы откровенно... Кто не грешен? Вы взяли у вашего папаши
двадцать пять рублей, что у них в комоде лежали, или не вы?
Серапион сплевывает в сторону и молчит.
— Говори же! — кричит Кузьма Егоров и стучит кулаком о стол. — Говори: ты или не ты?— Как
вам угодно-с... Пускай..
.— Пущай, — поправляет жандарм.
— Пущай это я взял... Пущай! Только напрасно вы, папаша, на меня кричите. Стучать тоже не для
чего. Как ни стучите, а стола сквозь землю не провалите. Денег ваших я никогда у вас не брал, а ежели
брал когда-нибудь, то по надобности... Я живой человек, одушевленное имя существительное, и мне
деньги нужны. Не камень!..
— Поди да заработай, коли деньги нужны, а меня обирать нечего. Ты у меня не один, у меня вас
семь человек!
— Это я и без вашего наставления понимаю, только по слабости здоровья, как вам самим это
известно, заработать, следовательно, не могу. А что вы меня сейчас куском хлеба попрекнули, так за
это самое вы перед господом богом отвечать станете...
— Здоровьем слаб!.. Дело у тебя небольшое, знай себе стриги да стриги, а ты и от этого дела
бегаешь.
— Какое у меня дело? Разве это дело? Это не дело, а одно только поползновение. И
образование мое не такое, чтоб я этим делом мог существовать.
— Неправильно вы рассуждаете, Серапион Косьмич, — говорит дьячок. — Ваше дело
почтенное, умственное, потому вы служите в губернском городе, стрижете и бреете людей умственных,
благородных. Даже генералы, и те не чуждаются вашего ремесла.
— Про генералов, ежели угодно, я и сам могу вам объяснить.Фельдшер Иванов слегка
выпивши.— По нашему медицинскому рассуждению, — говорит он, — ты скипидар и больше
ничего.— Мы вашу медицину понимаем... Кто, позвольте вас спросить, в прошлом годе пьяного
плотника, вместо мертвого тела, чуть не вскрыл? Не проснись он, так вы бы ему живот распороли. А кто
касторку вместе с конопляным маслом мешает?
— В медицине без этого нельзя.
— А кто Маланью на тот свет отправил? Вы дали ей слабительного, потом крепительного, а
потом опять слабительного, она и не выдержала. Вам не людей лечить, а, извините, собак.
— Маланье царство небесное, — говорит Кузьма Егоров. — Ей царство небесное. Не она деньги
взяла, не про нее и разговор... А вот ты скажи... Алене отнес?
— Гм... Алене!.. Постыдились бы хоть при духовенстве и при господине жандарме.
— А вот ты говори: ты взял деньги или не ты?
Староста вылезает из-за стола, зажигает о колено спичку и почтительно подносит ее к трубке
жандарма.
— Ффф... — сердится жандарм. — Серы полный нос напустил!
Закурив трубку, жандарм встает из-за стола, подходит к Серапиону и, глядя на него со злобой и в
упор, кричит пронзительным голосом:— Ты кто таков? Ты что же это? Почему так? А? Что же это
значит? Почему не отвечаешь? Неповиновение? Чужие деньги брать? Молчать! Отвечай! Говори!
Отвечай!— Ежели...— Молчать!
— Ежели... Вы потише-с! Ежели... Не боюсь! Много вы об себе понимаете! А вы — дурак, и
больше ничего! Ежели папаше хочется меня на растерзание отдать, то я готов... Терзайте! Бейте!
— Молчать! Не ра-а-азговаривать! Знаю твои мысли! Ты вор? Кто таков? Молчать! Перед кем
стоишь? Не рассуждать!
— Наказать-с необходимо, — говорит дьячок и вздыхает. — Ежели они не желают облегчить
вину свою сознанием, то необходимо, Кузьма Егорыч, посечь. Так я полагаю: необходимо!
— Влепить! — говорит бас Михайло таким низким голосом, что все пугаются.— В последний
раз: ты или нет? — спрашивает Кузьма Егоров.
— Как вам угодно-с... Пущай... Терзайте! Я готов...
— Выпороть! — решает Кузьма Егоров и, побагровев, вылезает из-за стола.
Публика нависает на окна. Расслабленные толпятся у дверей и поднимают головы. Даже баба с
переломленным ребром, и та поднимает голову...
— Ложись! — говорит Кузьма Егоров.Серапион сбрасывает с себя пиджачок, крестится и со
смирением ложится на скамью.
— Терзайте, — говорит он.
Кузьма Егоров снимает ремень, некоторое время глядит на публику, как бы выжидая, не
поможет ли кто, потом начинает...
— Раз! Два! Три! — считает Михайло низким басом. — Восемь! Девять!Дьячок стоит в уголку и,
опустив глазки, перелистывает книжку...— Двадцать! Двадцать один!
— Довольно! — говорит Кузьма Егоров.
— Еще-с!.. — шепчет жандарм Фортунатов. — Еще! Еще! Так его!
— Я полагаю: необходимо еще немного! — говорит дьячок, отрываясь от книжки.
— И хоть бы пискнул! — удивляется публика.
Больные расступаются, и в комнату, треща накрахмаленными юбками, входит жена Кузьмы
Егорова.
— Кузьма! — обращается она к мужу. — Что это у тебя за деньги я нашла в кармане? Это не те,
что ты давеча искал?
— Оне самые и есть... Вставай, Серапион! Нашлись деньги! Я положил их вчерась в карман и
забыл...
— Еще-с! — бормочет Фортунатов. — Влепить! Так его!
— Нашлись деньги! Вставай!
Серапион поднимается, надевает пиджачок и садится за стол. Продолжительное молчание.
Дьячок конфузится и сморкается в платочек.
— Ты извини, — бормочет Кузьма Егоров, обращаясь к сыну. — Ты не того... Чёрт же его знал,
что они найдутся! Извини...
— Ничего-с. Нам не впервой-с... Не беспокойтесь. Я на всякие мучения всегда готов.— Ты
выпей... Перегорит...
Серапион выпивает, поднимает вверх свой синий носик и богатырем выходит из избы. А
жандарм Фортунатов долго потом ходит по двору, красный, выпуча глаза, и говорит:
— Еще! Еще! Так его!
1881
Ответьте на вопросы:
1. Настоящий ли суд описывается в произведении? Почему?
2. Справедливо ли был наказан Серапион? Почему?
Антон Павлович Чехов (1860 - 1904) «В аптеке»
Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту
времени, от доктора отправился прямо в аптеку.
«Словно к богатой содержанке идёшь или к железнодорожнику,— думал он, взбираясь по
аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами.— Ступить страшно!»
Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства
с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и
внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За жёлтой, лоснящейся конторкой,
уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой,
строгим лицом и с выхоленными бакенами — по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой
плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно
выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели
свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решёткой сидел
кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в
полумраке копошились две тёмные фигуры. Свойкин подошёл к конторке и подал выутюженному
господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши лёгкий
полуоборот головы направо, пробормотал:
— Calomeli grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem!
1
— Ja! — послышался из глубины аптеки резкий, металлический голос.
Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру.
— Ja! — послышалось из другого угла.
Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.
— Через час будет готово,— процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.
— Нельзя ли поскорее? — пробормотал Свойкин.— Мне решительно невозможно ждать.
Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать
мелочь, глубоко вздохнул и щёлкнул ключом. В глубине одна из тёмных фигур завозилась около
мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали
часы.
Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей
голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора,
полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флёр, а однообразный стук о мраморную
ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове... Разбитость
и головной туман овладевали его телом всё больше и больше, так что подождав немного и чувствуя, что
его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором...
— Должно быть, у меня горячка начинается,— сказал он.— Доктор сказал, что ещё трудно решить,
какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб... Ещё счастье моё, что я в столице заболел, а не дай бог
этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!
Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкина он не
ответил ни словом, ни движением, словно не слышал... Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны
спичкой... Стук мраморной ступки становился всё громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин
поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи... Перед ним замелькали сначала
всевозможные «радиксы»: генциана, пимпинелла, торментилла, зедоариа и проч. За радиксами
замелькали тинктуры, oleum'ы, semen'ы, с названиями одно другого мудрёнее и допотопнее.
«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! — подумал Свойкин.— Сколько рутины в
этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как всё это солидно и внушительно!»
С полок Свойкин перевёл глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он
1 «Calomeli(старое название хлорида ртути) два зерна, сахара, белый - зерна, пять, десять».
резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма,
косметические мыла, мазь для ращения волос...
В аптеку вошёл мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 коп. бычачьей желчи.
— Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель к провизору,
обрадовавшись теме для разговора.
Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-учёную
физиономию провизора.
«Странные люди, ей-богу! — подумал он.— Чего ради они напускают на свои лица учёный
колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно
подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки... Средневековое
из себя что-то корчат... В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, чёрствых физиономий, а вот как
заболеешь, как я теперь, то и ужаснёшься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной
фигуры...»
Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь,
во что бы то ни стало, подальше от света, учёной физиономии и стука мраморной ступки... Болезненное
утомление овладело всем его существом... Он подошёл к прилавку и, состроив умоляющую гримасу,
попросил:
— Будьте так любезны, отпустите меня! Я... я болен...
— Сейчас... Пожалуйста, не облокачивайтесь!
Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.
«Полчаса ещё только прошло,— подумал он.— Ещё осталось столько же... Невыносимо!»
Но вот, наконец, к провизору подошёл маленький, чёрненький фармацевт и положил около него
коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью... Провизор дочитал до точки, медленно отошёл
от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал её перед глазами... Засим он написал сигнатуру, привязал
её к горлышку склянки и потянулся за печаткой...
«Ну, к чему эти церемонии? — подумал Свойкин.— Трата времени, да и деньги лишние за это
возьмут».
Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.
— Получите! — проговорил он наконец, не глядя на Свойкина.— Взнесите в кассу рубль шесть копеек!
Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого
рубля, нет больше ни копейки...
— Рубль шесть копеек? — забормотал он, конфузясь.— А у меня только всего один рубль... Думал, что
рубля хватит... Как же быть-то?
— Не знаю! — отчеканил провизор, принимаясь за газету.
— В таком случае уж вы извините... Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю...
— Этого нельзя... У нас кредита нет...
— Как же мне быть-то?
— Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите.
— Пожалуй, но... мне тяжело ходить, а прислать некого...
— Не знаю... Не моё дело...
— Гм...— задумался учитель.— Хорошо, я схожу домой...
Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой... Пока он добрался до своего номера, то
садился отдыхать раз пять... Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать
отдохнуть... Какая-то сила потянула его голову к подушке... Он прилёг, как бы на минутку... Туманные
образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание... Долго он помнил, что ему
нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла своё. Медяки высыпались из кулака,
и больному стало сниться, что он уже пошёл в аптеку и вновь беседует там с провизором.
1885
Дайте ответы на вопросы:
1. Какие проблемы нашего общества затрагивает писатель в рассказе?
2. Придумайте свой финал произведения.
М Горький (Алексей Максимович Горький — 1868 — 1936) «Нищенка»
— Теперь я пойду прогуляться! — вслух произнёс Павел Андреевич, бросил перо, зевнул, вытянулся в
кресле и меланхолично засвистал.
Ему хорошо поработалось, он чувствовал себя бодрым и довольным. Завтра он скажет в суде две
пустяковые речи, затем выступит ещё два раза — и сессия кончена. Можно будет взять маленький
отпуск и поехать в Крым посмотреть на ласковое море и знойное южное небо... У него есть уже
репутация талантливого оратора и хорошего законоведа; он вправе ожидать в близком будущем
назначения в прокуроры, и жизнь ему не кажется ни утомительной, ни дурной; она скучна, если
смотреть на неё слишком пристально, но зачем же нужно именно так смотреть? Едва ли что-нибудь,
кроме миллиона терзаний, даст такое отношение к ней, к этой жизни, которую так много раз пытались
разгадать и не разгадали; и едва ли разгадают когда-либо...
"Наша жизнь вся сполна нам судьбой суждена!" — незаметно для себя сбился Павел Андреевич на
философию Ламбертучио и, просвистав опереточный куплет в неподходяще минорном тоне, улыбнулся,
снова зевнул и, встав с кресла, крикнул:
- Ефим!
Затем умеренно самодовольно оглянулся вокруг себя.
Его рабочая комната, обставленная комфортабельной мебелью без бьющего на эффект шика, а с
солидной красотой и удобством, теперь богато залитая молодым ярким солнцем последних дней апреля,
смотрела на него своими стенами и украшениями так ласково и светло, что ещё более усиливала в нём
хорошее, тёплое ощущение сладости бытия.
— Ефим! — снова позвал он.
— Я здесь!
Из-за тяжёлой коричневой портьеры, пышными складками закрывавшей дверь, высунулась пушистая
седая голова, и на Павла Андреевича выразительно уставилась пара добрых старческих глаз, тонувших в
кудрявой серебряной бахроме бороды и бровей.
- Иду гулять, братец; часам к семи приготовь самовар. Больше ничего.
— А ежели кто спрашивать вас будет?
— Скоро приду. Но некому.
— А может, гости придут?
— Ну, какие же к нам с тобой ходят гости, Ефим?
— Точно, что не ходят!
— Так что же ты спрашиваешь?
- А для порядку. Это уж так всегда в хороших домах лакей спрашивает у бар, коли они изволят куда
отлучаться.
- Ага, вот что! — И, добродушно-скептически улыбнувшись, Павел Андреевич надел пальто и вышел на
улицу.
Чисто выметенная и ещё сырая от недавно стаявшего снега улица была пустынна, но красива
выдержанной и немного тяжёлой красотой. Большие белые дома с лепными украшениями по карнизам и
в простенках между окнами, окрашенные в тонко розоватый оттенок весенними лучами заходящего
солнца, смотрели на свет божий философски сосредоточенно и важно. Стаявший снег смыл с них пыль,
и они стояли почти вплоть друг к другу такими чистыми, свежими, сытыми. И небо сияло над ними так
же солидно, светло и довольно.
Павел Андреевич шёл и, чувствуя себя в полной гармонии с окружающим, лениво думал о том, как
хорошо можно жить, если не требовать от жизни многого, и как самонадеянны и глупы те люди,
которые, обладая грошами, требуют себе от жизни на рубли. Странное племя! Жизнь учит их и учит так
жестоко, а они всё-таки продолжают бесноваться, не умея найти себе надлежащей точки опоры, не умея
привести свои способности в гармонию с своими желаниями...
Думая так, механически и безмятежно, он не заметил, как вышел на набережную улицу.
Перед ним внизу стояло целое море воды, холодно блестевшей в лучах солнца, далеко на горизонте
медленно опускавшегося в неё. Река, как и отражённое в ней небо, была торжественно покойна. Ни
волн, ни частой сети ряби не видно было на её полированно-холодной поверхности. Широко
размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, покойно уснула. А на ней томно таяла пурпурно-
золотая бархатная полоса лучей заката. Далеко, уже окутанная сизой дымкой вечера, виднелась узкая
лента земли, отделяя воду от неба, безоблачного и пустынного, как и накрытая им река... Хорошо бы
плыть свободной птицей между ними, мощно рассекая крылом синий свежий воздух!..
— Голубчик, барин! Хри-ста ради, копеечку на хлеб пожалуйте! Работы нет, целый день не евши...
Истомились... Ваше благородие, будь милостив бога для!..
Павел Андреевич вздрогнул и обернулся.
Поющие голоса — надтреснутый тенор и хриплый безнадёжный баритон — без пауз рвали воздух и
резали уши Павла Андреевича.
Перед ним стояли двое — парень лет под двадцать, с топором в руке и с рваной шапкой в другой, в
женской кацавейке с торчащей из многочисленных дыр грязной ватой, и мужик лет пятидесяти, в
полушубке, в лаптях, с коричневым грязным картузом, засунутым за пояс. На лице парня, землистом,
голодном и сухом, застыла жалобно-жадная мина, он ухитрился выразить вместе ожидание подачки и
просительное подобострастие. Мужик, всё лицо которого было завешено упавшими на лоб жёсткими
волосами и свалянной в жгут бородой, упорно смотрел в землю и безнадёжно гудел, как-то лениво
вытягивая из себя звуки. Парень же пел свою просьбу быстрым речитативом, точно боясь, что не
дослушают его и не успеет он достаточно высказать все причины, которые заставили его
нищенствовать.
— Будет! — громко и недовольно сказал Павел Андреевич и быстро опустил руку в карман.
Но тут случилось нечто странное, ошеломившее его чуть не до потери сознания.
- Барин, миленький! Не давай им!.. не давай!.. Они уж тридцать пять копеек набрали... Ишь, жадёры!..
Баринушка, мне!!. Голубчик, подай маленькой девочке на хлеб, Христа ради!..
Павел Андреевич почувствовал, что кто-то крепко вцепился в его руку, опущенную в карман, вцепился,
тормошит её и звонким дискантом воет жалкие и в то же время страстно просительные слова.
Это был какой-то маленький грязный живой комок, голова его глубоко воткнулась в складки шинели
Павла Андреевича, и этот комок так быстро, точно вьюн, кружился и извивался на одном месте, что
положительно не было возможности подробно рассмотреть, что это такое... Три голоса наперебой ныли
и оглушали его, вызывая в нём острое раздражение.
— Молчать! Пошли прочь! — крикнул он.
Но его властный окрик мало подействовал.
— Эх, барин! — глубоким вздохом возгласил баритон, извлекая этот возглас из самых недр своего
нутра.
— Кормилец ты наш! — подхватил высоко и колоратурно тенор.
— Врут они, баринушка, не верь! Они уж тридцать пять копеек собрали!.. А вот как ко всенощной
ударят, на паперть пойдут, там ещё с эстолько награбастают... Жадёры окаянные!..
- Прочь, говорю!.. — ещё раз зычно гаркнул Павел Андреевич, крепко выругался и тотчас же смущённо
оглянулся.
Но набережная была пуста, и никто не мог видеть его раздражения. Тогда сильным движением он
оторвал от своей шинели впившийся в неё цепкий комок и поднял его рукой до своего лица... Но тут же,
поражённый, быстро опустил руку, отчего существо, бившееся в ней, покатилось на тротуар, всё-таки не
переставая просить звенящим тонким дискантом.
Павел Андреевич закрыл на секунду глаза, глубоко вздохнул, сунул в одну из простёртых к нему рук
какую-то мелочь и, замахав рукой в ответ на благодарные пожелания, звучавшие как-то странно-
тоскливо и вымученно, — наклонился над запутавшимся в лохмотьях существом как раз в то время,
когда оно, точно резиновый мяч, отскочило от мостовой, причём груда навешанной на нём грязной
рвани, встряхнутая быстрым движением, сделала его похожей на уродливую большую ночную бабочку.
- Голубчик, баринушка, и мне копеечку!.. Дай Христа ради... — снова волчком завертелось у него в
ногах крохотное создание.
- Погоди, погоди!.. — немного растерянно бормотал Павел Андреевич, пристально рассматривая её.
Это была маленькая светлолицая девочка лет шести-семи, подвижная, как ртуть, и невероятно
оборванная. Лохмотья, подпоясанные рваной красной тряпкой, совершенно скрывали под собой её
фигурку, только маленькая головка, высовываясь из них, давала возможность отнести её к классу людей.
Именно эта головка и поразила Павла Андреевича, знатока красоты и поклонника всего изящного.
Детски маленькая, она, несмотря на грязную тряпку, покрывавшую её, а может быть, благодаря именно
этой тряпке, резко оттенявшей цвет и изящество личика, была разительно красива. Тонкие и мелкие
кольца кудрей, выбиваясь из повязки, падали на лоб и щёки и трепетали на них, позволяя просвечивать
сквозь себя живому, ярко-розовому румянцу. Маленький,- точно резцом выточенный носик, с нервно
раздутыми от возбуждения ноздрями, розовыми и прозрачными, нервно вздрагивавшие пунцовые губки,
маленькие и пышные, круглый с мягкой, милой ямкой подбородок и большие синие бархатные глаза —
всё это в целом и её лохмотья - делало её странно похожей на маленькую кучку мусора с расцветшим в
центре её обаятельно и капризно красивым цветком. Но она, не переставая, звенела своим тонким
дискантом, звенела жалкие и гадко-льстивые слова — и этим нарушала иллюзию.
— Погоди же, погоди!.. — уже раздражаясь, говорил Павел Андреевич.
Ему хотелось, чтобы она замолчала, не суетилась так и дала бы возможность подробно рассмотреть её.
Он медленно шёл вдоль тротуара и, не сводя с неё глаз, думал о том, чем бы это заставить её замолчать...
Подать ей? Она будет благодарить. Повести её к себе? Вот нелепость!.. И, думая так, он в восхищении
повторял про себя: "Но как она красива! Ангельски, именно ангельски красива!"
— Барин! Голубчик, подай!.. Мать дома больная, братишка грудной ещё, по-дай Хри-ста...
— Стой же, погоди. Я тебе дам, понимаешь? Дам! Много дам. Помолчи. Погоди. Скажи мне прежде —
ты откуда? Чья ты? Кто твой отец, мать? Давно ли ты это... то есть просишь?
С её поднятого кверху личика детски доверчиво смотрели ему в лицо синие глазки и как-то невольно
вызывали у Павла Андреевича некоторые смутные, незнакомые ему чувства и располагали его к
исключительным поступкам. Он оглянулся вокруг... Улица была пуста, и вечер понемногу окутывал её
своей мягкой тенью, Тогда он взял девочку за руку и пошёл, стараясь соразмерять свои шаги с её
торопливой, вертлявой походкой. Это ему плохо удавалось, и он сам как-то прыгал, то опережая её, то
отставая; а она семенила около него, дёргая его руку и громко, на всю улицу рассказывала:
— Я ведь здешняя. Мы там живём, внизу, в слободе. Отец-то помер. От водки это. А мамка тоже
померла, оттого что он её бил уж очень, Я с тёткой Нисой теперь и живу. Она говорит мне: "Коли ты,
говорит, пострелёнок, мало насбираешь, я те за вихры отвожу". Тётка-то Ниса говорит... Сердитая тоже.
Барин хороший...
— Погоди же, я сказал — дам! Но ведь ты говорила, что дома мать у тебя и брат больные...
— Это тётка Ниса велит, чтобы жалобней было. А как не жалобно, не будут подавать, говорит. "Ты,
говорит, дьяволёнок, смотри у меня, мало не приноси. Ври, говорит, во всю мочь... И чтобы жалобнее... а
то и не станут подавать..."
Тонкий, звенящий дискант ребёнка всё сильнее возбуждал в нём странные, непривычные мысли. Он
шагал медленно, задумчиво, плотно закутавшись шинелью, и, вслушиваясь в музыку её речи, подумал,
что ей, должно быть, очень холодно в этот свежий весенний вечер, и, машинально взглянув на её ноги,
почувствовал, что его неприятно укололо где-то. Грязные, стоптанные башмачишки на её быстро и гулко
топавших о мостовую ножках широко улыбались всякий раз, когда она высоко подымала ногу,
улыбались, и эта улыбка открывала маленькие голые и мокрые пальцы, покрасневшие от холода. И как
она грязна и оборвана!.. Он поднял голову и посмотрел вдоль улицы.
Два ряда домов, больших и холодных, неприветливо смотрели тёмными пятнами окон на него и его
спутницу. В их взглядах было что-то ироническое и строго определённое. И казалось, они были
недовольны им, Павлом Андреевичем, за то, что он позволял так громко звенеть этой маленькой нищей.
Павел Андреевич, приведённый в состояние какого-то тоскливого гипноза её говором, чувствуя себя
утомлённым и разбитым, вдруг почему-то подумал, что если бы кто-нибудь из знакомых встретил его в
этой компании, то... было бы очень нелепо. Его и так незаслуженно считают мизантропом только за то,
что он не хочет близких знакомств, тогда как он не хочет их совершенно не из
человеконенавистничества. Просто потому не следует ставить себя с людьми в так называемые близкие,
дружеские отношения, что такие отношения ведут за собой нелепую обязанность выслушивать от них
массу рассказов о разных пошлостях, об интригах, о здоровье и характере их жён и других мелких
житейских событиях, до расстройства желудка включительно. На что нужны эти пустые и пошлые
разговоры? Всё это неважно и ненужно. Покой, созерцание, иногда любопытство, но любопытство без
страсти, без самозабвения, — вот нормальная жизнь. Внутренний мир современного человека настолько
сложен и разнообразен, что, изучая его, можно совершенно и полно удовлетворить тщеславную жажду
ума больше знать. А мир внешних явлений, — он слишком нервозен и слишком скоро утомляет
человека, который хочет жить просто и спокойно. Чем больше изолирован человек от других людей, тем
он счастливее, ибо счастие — это покой, не больше. Зачем же нужна эта ангельски красивая девочка в
лохмотьях ему, Павлу Андреевичу, товарищу прокурора и человеку с установившимися взглядами на
жизнь? Она — пролог к тяжёлой и глупой драме, которую он не хочет видеть.
Они уже знакомы ему, эти простые драмы, и даже надоели. Её жалко; но что же дальше? Чем он мог бы
помочь ей? Уж, конечно, не деньгами, которые проглотила бы тётя Ниса. Другого же выхода он не
видит... Чего ж она звенит ему в уши свою унылую комариную песню? Зачем всё это надо? Фу, как всё
это ненормально и глупо!..
Выпустив руку девочки из своей, Павел Андреевич вынул портмоне и задумался. Сколько ей дать?
Рубль мог бы временно облегчить её положение, но он может развить аппетит тёти Нисы и через три
дня ухудшить это положение.
— Те, двое-то, жадные... тридцать пять копеек уж есть, а они ещё всё просят. Кабы я насбирала
тридцать-то пять копеек, так домой бы пошла! — говорила девочка укоризненно и серьёзно.
Павел Андреевич заметил, что глаза её блестят не по-детски сухо. Её маленькая фигурка, сжатая
холодом, стала ещё меньше, а лохмотья как-то странно заершились. Она стала похожа на избитого
совёнка с выщипанными перьями. Он представил себе её ночью одну, идущую по холодной молчаливой
улице, среди подавляюще больших домов. Это была очень печальная картина... Что же ему с ней
сделать? А он вновь почувствовал себя обязанным что-то сделать. Человек филантропического
темперамента живо бы нашёл выход из этого затруднительного положения; просто человек — не
заметил бы её, а он вот потерялся.
Его стало разбирать зло на себя; но в это время он увидал, что стоит у крыльца своей квартиры, и
подумал, что самое лучшее — оставить её ночевать в комнате Ефима, а наутро, может быть, что-нибудь
и придумается.
- Ты пойдёшь ко мне! — сказал он зябко прижавшейся к двери девочке, дёргая ручку звонка.
Она не удивилась, ничего не сказала и даже вперёд его юркнула в дверь под ноги Ефима.
Павел Андреевич усмехнулся на молчаливый вопрос своего слуги, разделся, скомандовал своей гостье:
"Разденься!", Ефиму: "Умой её!" и, крепко потирая немного озябшие руки, вошёл к себе в комнату и сел
за стол в глубокое мягкое кресло.
Перед ним урчал и фыркал самовар, из отверстия в крышке с лёгким свистом вылетала струйка пара. В
этом свисте Павлу Андреевичу послышалось что-то насмешливое, а в глухом урчании воды — нечто
недовольное.
Он облокотился на стол руками и, закрыв глаза, — любимая привычка, — представил себе свою гостью
одетой в чистое платье, причёсанной и умытой... Это было идеально красиво.
- А куда же прикажете её деть? — спросил Ефим, просовывая голову в дверь.
Павел Андреевич обернулся к нему:
— А как ты думал, Ефим, куда её?
— Да ведь как же иначе?.. Напоить чаем и домой отправить. Я отведу, — решил тот.
— Гм! — снова задумался Павел Андреевич. — Хорошо, пусть будет так.
И он стал наливать себе чай. Он любил вечерний чай. Под меланхолические песни самовара, в этой
залитой розовым светом лампы комнатке так славно думается и дышится. Всё так тепло, мягко,
родственно... И так тихо, сладко-тихо... Но сегодня вот в его квартире новые звуки: это тонкий голос
гостьи в комнате Ефима. Она всё что-то рассказывает там без устали, и изредка глухой бас Ефима
коротко перебивает её. Что ждёт завтра эту девочку? Что ждёт её через десять лет?..
"Однако, в какое добродетельно-минорное настроение погружаюсь я! О чём, собственно, можно тут
думать? О помощи ей? Близоруко и неумно. Их тысячи, этих уличных детей, и чьё-либо единичное
усилие не улучшит их положения. Это обязанность общества, если ему угодно. И потом, в ней,
наверное, есть уже инстинкты, которых не победишь воспитанием и которые со временем могут
развиться. Бог с ней, с этой девочкой!.. В лучшем случае она будет кокеткой, если она умна, конечно..."
Но Павел Андреевич чувствовал, что как бы он ни думал, — ему сегодня почему-то плохо думалось,
такими всё избитыми, общими местами, ни одной своей, оригинальной мысли... Почему бы это? Как бы
он ни думал, ему не исчерпать этого вопроса о девочке, что-то остаётся, уклоняясь от определения
словами, что-то такое смутное, неприятное... Не зарождается ли это сознание обязанности по
отношению к ней, всё-таки же человеку? Едва ли, едва ли... Едва ли и существует такая обязанность.
Законы общежития, нравственности и вообще всевозможные законы, это — скорее всего искусственные
логические построения, прекрасно доказывающие хорошие чувства и намерения их авторов — не
больше.
— Ефим! — позвал Павел Андреевич. — Ну, как она?
— Уснула, Павел Андреевич! — умилённо сообщил Ефим.
— Уснула?! Гм!.. Как же теперь?
— До утра уж, что буде. Утром я её и справлю. Что ж она? Спит, не мешает. Всё щебетала. Тридцать
пять копеек, говорит... Видно, тридцать пять копеек для неё сто рублей. Умильная девочка! Тридцать
пять копеек кто-то, вишь, набрал.
— Да, да, я это знаю. Ну, пусть спит там! — рассеянно заметил Павел Андреевич.
— Вот, вот! Пускай с богом! А мне бы, Павел Андреевич, уйти надо, позвольте! — сказал Ефим.
— Ну, а девочка как же?
— Что ж она? Спит. Я ведь ненадолго.
— Ага, иди, иди. Можешь. Скорее только, а то она проснется, и я не буду знать, что делать.
— Что ж ещё делать? Ничего не надо делать. Я кухарке скажу, коли что... — немного удивлённо
произнёс Ефим и скрылся.
Павел Андреевич закурил папиросу и лёг на диван. Самовар затих. Теперь вся комната была наполнена
стуком маятника столовых часов.
"Нужно переменить эти часы, у них слишком стучит маятник..." Но здесь Павел Андреевич поймал себя
на очень странном ощущении. Это была какая-то боязнь думать; нечто совершенно новое. Где-то в нём
шевелилось смутное, незнакомое чувство, назойливо требовавшее формулировки.
"Пустяки это! Всё пустяки!" — мысленно отмахнулся он. Но, полежав немного, он почувствовал, что
ему необходимо встать и пойти посмотреть, как она, эта девочка, спит там.
Он встал, пошёл и, проходя мимо зеркала, увидал на своём лице сконфуженную и растерянную улыбку.
Ему стало больно от этого.
"Как я сегодня глуп!" — попробовал он урезонить себя, но не достиг цели.
Вот перед ним кровать Ефима, завешенная ситцевым пологом. За этим пологом слышится ровное,
глубокое дыхание. Павел Андреевич снял со стены лампу и, раздвинув полог, стал смотреть.
Гостья спала вверх лицом, широко и свободно раскинувшись. Её кудри осыпали своими кольцами всё
личико, и полуоткрытые губки, улыбаясь, показывали маленькие белые зубы. Крохотная грудь
подымалась и опускалась так ровно, и вся она, хорошенькая и миниатюрная, была так одинока, жалка...
Павел Андреевич нахмурил брови и быстро отошёл. А когда он лёг на диван, то почувствовал, что его
настроение надолго испорчено и, кажется, это ещё не всё... "Может быть, это приведёт меня к тому, что
я покаюсь в эгоизме, к великому удовольствию господ идеалистов и прочих любителей
сентиментальности?" — холодно и едко спросил он сам себя. "Покаюсь и смиренно займусь
добродетельными волнениями о ближнем и судьбах его?" Он чувствовал, как думы оставляют
тоскливый и злой осадок. И, как ни старался, не мог забыть о том, что в его квартире, кроме его
уравновешенной, покойной жизни, есть ещё жизнь — в зародыше, маленькая пока жизнь; в будущем
она будет грязной и тяжёлой историей, может быть, очень длинной... Хорошо, коли тупой, растительной,
но если проснётся сознание?.. Будет бесконечная, мучительная борьба, и кончится она падением. "И,
может быть, я же, тогда уже прокурор, как дважды два четыре, докажу господам присяжным
необходимость засадить эту девочку в тюрьму. Какая ирония!"
Он закрыл глаза и, убавив огонь в лампе, неподвижно вытянулся на диване.
Одна за другой мысли рождались и роились в его голове, и, когда он с усилием оттаскивал их от себя на
минуту, он казался себе бессильным, жалким, порабощаемым чем-то, виноватым в чём-то. И вся эта
путаница ощущений была так туманна и смутна для него. "Зачем я привёл эту девочку?" — тоскливо
спрашивал он себя. "Ведь десять человек подали и прошли мимо неё, и, наверное, это были люди менее
установившиеся и более чувствительные, чем я. О, наверное! Зачем же именно я должен болеть за неё?"
Но тут ему стало смешно над собой... "Спрашивать так, это спрашивать — зачем кусок карниза упал на
голову именно этого человека? Эта девочка — тоже случайная шутка судьбы..."
У него выступал на лбу холодный пот, и что-то давило на лёгкие, мешая дышать. Он сбросил пиджак и
[жилет], расстегнул ворот рубахи и снова закрыл глаза.
Когда он раздевался, то заметил, что портьера на двери странно колыхнулась, но не обратил на это
внимания. Поглощённый своими думами и меланхолическим полумраком комнаты, он лежал с
закрытыми глазами, и время, казалось ему, тянется невыносимо медленно, несмотря на торопливое
тиканье часов...
Вдруг ему почудился какой-то шорох... Он полуоткрыл глаза и вздрогнул, увидав, что спущенная с
петель и совершенно закрывавшая дверь портьера тихо колеблется, отводимая в сторону маленькой
детской рукой. Не шевелясь, Павел Андреевич наблюдал полузакрытыми глазами, удерживая дыхание,
стараясь ни звуком не выдать своё присутствие в комнате. На тёмном фоне портьеры показалась
золотистая головка его гостьи, осторожно повёртывавшаяся, осматривая комнату. Синие детские глазки
были широко раскрыты, серьёзны и не по-детски решительны. Розоватого света лампы было достаточно
много для того, чтобы ясно видеть каждую чёрточку лица. Напряжённое внимание сделало его менее
красивым, но как-то более фантастичным и приковывавшим к себе. Несколько кудрей капризно
поднялись надо лбом и образовали из себя ажурную корону. Чисто умытое личико было бледно,
несмотря на розоватый свет лампы, мягко и ласково освещавший его, и глаза казались Павлу
Андреевичу гораздо более красивыми, чем раньше.
Вот она осторожно подняла правую ножку, босую и грязную, но тонкую и красивую, подняла и сделала
шаг к столу, где стояла лампа и масса безделушек. Потом сделала ещё шаг и повернула головку в
сторону Павла Андреевича... Тут она вздрогнула и сделала быстрое движение к двери, взмахнув руками
и простерев их перед собой, точно собираясь бежать. Павел Андреевич постарался дышать ровно и так
громко, чтоб она слышала его дыхание.
Она неподвижно стояла с полураскрытыми губками и с выражением детского испуга на своём
ангельском личике смотрела в его сторону и вслушивалась.
Грязное платье было ей и узко и коротко, ноги по колена были видны из-под него, и руки далеко
высовывались из рукавов; застёгнута была только одна пуговица, у талии, и белая тонкая шейка с
частью груди была открыта.
Павел Андреевич пожелал тихонько исчезнуть, оставив на сцене только свои глаза.
Но она, очевидно, убедилась в его крепком сне и в три быстрых и гибких, как у котёнка, движения
очутилась у стола. Здесь она положила локотки на его край и, подперев ладонями головку, улыбнулась
такой большой и светлой улыбкой — и зачем-то высоко поджала под платье левую ножку. Затем
выразила на своём лице удивление и удовольствие, закачала из стороны в сторону головкой и,
осторожно взяв в ручку пресс-папье, изображавшее медведицу с двумя медвежатами, подвинула его к
себе, наклонила над ним головку и, точно не решаясь более дотрагиваться до него руками, вертела
головкой из стороны в сторону, осматривая его с выражением восхищения на лице, улыбаясь и что-то
тихо, тихо шепча своими пунцовыми маленькими губками, а её кудри дрожали и падали на стол. Потом
она благоговейно и осторожно отодвинула от себя пресс и взяла пепельницу; повторив над нею так же
тщательно процедуру осмотра, она отодвинула и её, и так перебрала на столе все вещи и, вздохнув,
снова поставив локти на стол, стала смотреть... Потом вдруг о чём-то вспомнила, — отшатнулась от
стола и, оборотясь к Павлу Андреевичу, пошла к нему своей неслышной, эластичной походкой котенка.
Павел Андреевич изумился и как-то застыл. Но его изумление чуть не выразилось криком, когда она
подошла к стулу, на который он сложил своё платье, начала рыться в нём и, наконец, бросив его, села на
пол почти в ногах у Павла Андреевича.
Он ничего не понимал. Ему теперь нельзя было видеть, что именно она делает, и он едва удержался от
желания повернуться и принять такое положение, которое бы позволяло ему наблюдать за ней. Его как-
то жгло любопытство.
Послышался звон монет, падавших откуда-то на ковёр.
Павел Андреевич вздрогнул и понял...
Первым его желанием было встать и помешать ей; но что-то помешало ему самому сделать это. Он
лежал и слушал, как монеты тёрлись в её руках одна о другую.
"Ворует!.. воровка!!." — произнёс про себя Павел Андреевич и почувствовал, что эти два слова
неприложимы к девочке с золотыми кудрями, маленькой уличной нищей красавице. Он слушал, и
мысли одна за другой кололи ему мозг, как иглы...
Он услыхал тихий шёпот:
- Это гривенник... и это гривенник. И это... и это; только это большой. Тут уж есть и тридцать пять, и
больше есть! О-о-о!.. Вот теперь ну-ка!.. Ещё, может, мало тебе?!. жадёра ты старая!..
Павел Андреевич почувствовал, что ему невыносимо тяжело и что эта сцена должна быть кончена. Но
как, как? Проснуться ему? Это испугает её до сумасшествия...
Вдруг в комнате Ефима послышался шорох и шаги. Павел Андреевич вздохнул свободно и легко.
— Ну и штучка! — послышался изумлённый возглас Ефима.
Девочка не слыхала ни шагов, ни шороха, но она услыхала восклицание.
Вскочив на ноги, она бросилась к двери, и вслед за ней, предательски звеня, покатились серебряные и
медные монеты. В дверях стоял Ефим с испуганным лицом. Она попала прямо в его простёртые к ней
навстречу руки.
— Дяденька!.. — вскрикнула она умоляюще тоскливо.
— Ах ты, дрянь!.. — густо зашептал Ефим. — Воровка ты!.. А?!. Я те!..
Павел Андреевич решил, что пора выступить на сцену и ему.
- Ефим!.. — крикнул он, встав с дивана, и, подходя к двери, строго спросил: — Это что за возня?
- А... ворует, Павел Андреевич!.. — растерянно забормотал Ефим, крепко держа девочку в своих руках и
как-то странно и недоумевающе переводя глаза с неё на Павла Андреевича. — Ворует... А...
Девочка вся дрожала в испуге и волнении и крепко жалась к нему, стараясь не видеть барина.
— Её пригрели, можно сказать, а она... на-ко вот!.. — говорил Ефим. — Обокрасть хотела! Такая-то
малюсенькая! А?!. Ребёнок, а тоже поди-ка!.. человек вполне. Ах ты... ты... ты... девчонка скверная! Ух
ты... ты... ты!.. Ах, ах!.. Да разве можно в таком малом возрасте воровать?!.
Павлу Андреевичу страстно захотелось, чтоб это скорее кончилось... И тоном полного равнодушия, с
странной торопливостью, удивившей Ефима ещё более, чем самый тон, он заговорил:
- Вот возьми рубль, найми извозчика и отвези её домой. Скорее!.. Слышишь? Живо собирайся и —
марш! Отвези и отдай! И не говори ничего там дома у неё... Или нет, скажи всё; да лучше скажи, всё как
есть и скажи! Ну, ступай же, ступай!
Ефим замолчал и, как-то особенно внимательно посмотрев на барина, надел свою шубу и стал
торопливо кутать молчавшую и всё пугливо жавшуюся к нему девочку — в её лохмотья.
- Ну, идём! — сказал он, кончив одевать её, и быстро вышел из комнаты, тихонько толкая девочку вперёд
себя.
Павел Андреевич всё ещё стоял в дверях.
— Извозчик!.. — донеслось до его слуха с улицы. Прогремела пролётка и остановилась у крыльца.
Потом опять загремела, глухо, протестующе...
Тогда Павел Андреевич вошёл в комнату, прибавил света в лампе и сел к столу, где за пять минут перед
тем маленькая девочка рассматривала его вещи. Павлу Андреевичу казалось, что они приняли для него
какой-то новый, чуждый ему отпечаток. Он сидел и сосредоточенно-мрачно смотрел на них.
— Это долго не забудешь, чёрт возьми! — вполголоса проговорил он. — О да, очень долго!
Он встал с кресла и взволнованно подошёл к окну. Ночь была темна и тиха. Дома напротив окна, одетые
тьмой, были мрачно-холодны.
— Как это странно!.. Как это гадко! — угрюмо прошептал Павел Андреевич и прислонился лбом к
холодному и влажному стеклу окна. Он чувствовал себя разбитым... Он давно уклонялся от жизни, и
ему казалось, что он достиг этого, что жизнь никогда не сумеет задеть его, нарушить его безучастное
отношение к ней, что он гарантирован от тех тяжёлых дум, волнений, которые остались там, далеко
назади, и которые некогда волновали его... И вот они снова врываются... уже ворвались в его душу!..
— Да неужели же нельзя быть свободным? Не чувствовать себя обязанным что-то делать, чем-то
волноваться — нельзя? Хорошо. Но если так — это рабство! — Он вытер рукой влажный лоб и
прошёлся по комнате. — Может быть, это у меня нервы? Только нервы? И... скоро пройдёт?..
Часы тикали быстро и резко — тик-так, тик-так! В комнате было пусто, холодно и как-то особенно тихо.
Так тихо никогда не было в этой комнате.
1893
Задание:
Ответьте на вопросы:
1. Почему главный герой рассказа взял к себе маленькую нищенку?
2. Почему Павел Андреевич прошептал: «Как это гадко!»?
3. Как вы думаете, изменится ли жизнь Павла Андреевича после ухода девочки?
4. С какой целью была рассказана эта история автором произведения?
Куприн Александр Иванович (1870 — 1938) «Куст сирени»
Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в
фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми
бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое
несчастие... Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте,
глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам
бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами...
Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь
только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную
практическую работу - инструментальную съемку местности...
До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу да жене Алмазова было
известно, каких страшных трудов они стоили... Начать с того, что самое поступление в академию
казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на
третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе
достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно
поддерживала в нем бодрость... Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым
лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешевый, но все-таки
необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его
переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.
Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно
знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов
сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону... Вера стояла в двух шагах от него также
молча, с страданием на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью,
с которой говорят только женщины у кровати близкого труднобольного человека...
- Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо?
Он передернул плечами и не отвечал.
- Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим.
Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят,
высказывая долго сдержанную обиду.
- Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту
пошло!.. Всю эту дрянь, - и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, - всю эту дрянь хоть в печку
выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это
из-за какого-то поганого пятна... О, черт!
- Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.
Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал
смотреть в угол с обиженным выражением.
- Какое же пятно, Коля? - спросила она еще раз.
- Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился,
нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера,
устал, руки начали дрожать - и посадил пятно... Да еще густое такое пятно... жирное. Стал подчищать и
еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том
месте изобразить... Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче
профессору. «Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?» Мне бы нужно было так и
рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только... Впрочем, нет, не рассмеется, -
аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит:
«Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас
с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете,
говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом... Я вам
докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты...»
- Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?
- Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь. Да потому, что он вот уже
двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие
только есть на свете, да еще немец вдобавок... Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в
препирательство вступаю... Кроме того...
Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал
их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому
сильному человеку хочется заплакать.
Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным
движением вскочила с кресла.
- Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорей.
Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.
- Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться. Это
значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей.
- Нет, не глупости, - возразила Вера, топнув ногой. - Никто тебя не заставляет ехать с извинением... А
просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же.
- Посадить?.. Кусты?.. - вытаращил глаза Николай Евграфович.
- Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, - надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку...
Кофточку... Не здесь ищешь, посмотри в шкапу... Зонтик!
Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но невыслушанный, отыскивал шляпку и кофточку.
Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и
разбрасывала по полу.
- Серьги... Ну, это пустяки... За них ничего не дадут... А вот это кольцо с солитером дорогое... Надо
непременно выкупить... Жаль будет, если пропадет. Браслет... тоже дадут очень мало. Старинный и
погнутый... Где твой серебряный портсигар, Коля?
Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз
оглядывалась кругом, чтобы удостовериться, не забыто ли что-нибудь дома.
- Едем, - сказала она наконец решительно.
- Но куда же мы поедем? - пробовал протестовать Алмазов. - Сейчас темно станет, а до моего участка
почти десять верст.
- Глупости... Едем!
Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к
ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго
рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее
тем, что попробовал кольцо с брильянтом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля.
- Да ведь «это настоящий брильянт, - возмущалась Вера, - он стоит тридцать семь рублей, и то по
случаю.
Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.
- Нам это все равно-с, сударыня. Мы камней вовсе не принимаем, - сказал он, бросая на чашечку
весов следующую вещь, - мы оцениваем только металлы-с.
Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В
общем, однако, набралось около двадцати трех рублей. Этой суммы было более чем достаточно.
Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе
синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей
семьею за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной
просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы
отвечал очень сухо:
- Извините. Но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром -
то я к вашим услугам.
Тогда оставалось только одно средство: рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным
пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда
Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз
сочувственно улыбался.
- Ну, делать нечего, - согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать, - скажите, какие вам
можно будет посадить кусты?
Однако из всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волей-неволей
пришлось остановиться на кустах сирени.
Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все
время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим и только тогда согласилась ехать домой,
когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю
седловинку.
На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали,
по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что, история с кустами кончилась
благополучно... Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости, и
голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы.
- Хорошо! Прекрасно! - крикнул он еще за десять шагов в ответ на тревожное выражение женина
лица. - Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек
сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» - спрашивает. Я говорю: «Не знаю, ваше-ство». - «Березка,
должно быть?» - говорит. Я отвечаю: «Должно быть, березка, ваше-ство». Тогда он повернулся ко мне и
руку даже протянул. «Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл
про эти кустики». Славный он, профессор, и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из
лучших профессоров у нас. Знания - просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке
местности - удивительно!
Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в
подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое
было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при
этом сам Коля...
И они шли домой так, как будто бы, кроме них, никого на улице не было: держась за руки и
беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту
странную парочку...
Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день... После обеда, когда Вера
принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, - муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели
друг на друга.
- Ты - чему? - спросила Вера.
- А ты чему?
- Нет, ты говори первый, а я потом.
- Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?
- Я тоже глупости, и тоже - про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим
любимым цветком...
1894
Прочитать, написать ответ на вопрос:
Какую проблему или проблемы ставит автор текста?
Леонид Николаевич Андреев (1871 — 1919) «Ангелочек»
I
Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам
холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там,
как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый
вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди
перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему
казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в
гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не
мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал
учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему
расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все
испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу
умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя,
заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и
чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика.
Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», — и ответ: «Не
попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он
укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с
ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец
прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.
В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не
проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда
выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении,
стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и,
когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно
реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.
— Где полуночничаешь, щенок? — крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила.
Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали
капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в
голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда,
только плюнула и крикнула:
— Статистики, одно слово!
Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыханье
отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и
подкладывая под себя руки ладонями книзу.
— Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, — прошептал он.
— Врешь? — спросил с недоверием Сашка.
— Ей-Богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.
— Врешь? — все больше удивлялся Сашка.
Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения
показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.
— Ну-ка подвинься, расселся! — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: — А
к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», —
протянул Сашка в нос — Сами хороши, антипы толсторожие.
— Ах, Сашка, Сашка! — поежился от холода отец. — Не сносить тебе головы.
— А ты-то сносил? — грубо возразил Сашка. — Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!
Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка
на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым
чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и
ненавидела его. Но, когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно
привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого
человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и
наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность
мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела,
теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он
лежал за перегородкой, молчаливый, съежившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости
и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она
жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.
Через час мать говорила Сашке:
— А я тебе говорю, что ты пойдешь! — И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла
кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.
— А я тебе говорю, что не пойду, — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались
от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.
— Изобью я тебя, ох, как изобью! — кричала мать.
— Что же, избей!
Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если
выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому
она прибегла к авторитету мужа.
— А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.
— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. — Они, может быть, опять
тебя устроят. Они люди добрые.
Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у
Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской
статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него
дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на
улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна,
хотя ненавидела их, как книги и. все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и
хвалилась им.
— Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, — продолжал отец.
Он хитрил, — Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно
захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего
табаку.
— Ну, ладно! — буркнул он. — Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!
II
Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с
презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже
переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему
самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги
носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по
настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого
жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и
голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно
преследовал Сашка.
— Ты неблагодалный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А я холосой.
— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой
откладной воротничок.
— Хочешь лузье? На! — протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.
Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку.
Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и
в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал
длинными ресницами и зашептал:
— Злой... Злой мальчик.
В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими
часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.
— Вот этот, — сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. —
Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.
Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он
знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после
того как он женился сам, Сашка не мог простить измены.
— Дурная кровь, — вздохнула Софья Дмитриевна. — Вот не можете ли, Платон Михайлович,
устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в
ремесленное?
— Не хочу, — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».
— Что же, братец, в пастухи хочешь? — спросил господин.
— Нет, не в пастухи, — обиделся Сашка.
— Так куда же?
Сашка не знал, куда он хочет.
— Мне все равно, — ответил он, подумав, — хоть и в пастухи.
Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он
перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья
Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное
состояние.
— Я хочу и в ремесленное, — скромно сказал Сашка.
Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая
любовь.
— Но едва ли вакансия найдется, — сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку
и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. — Впрочем, мы еще посмотрим.
Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком,
внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько
кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь,
когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но
вот открылись двери, и чей-то голос сказал:
— Дети, идите! Тише, тише!
Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную
залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с
округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся
хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом
и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала
по ее плечам. Сашка был угрюм и печален, — что-то нехорошее творилось в его маленьком
изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных
свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые
дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-
то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль,
Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него
есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался
представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек
стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он
сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.
Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное
выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена
слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего
кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно
повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные
крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые
ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же
волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи.
Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства,
не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же
чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал
его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все
остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:
— Милый... милый ангелочек!
И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он
был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились
тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого
назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной
жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.
— Милый... милый! — шептал Сашка.
Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за
ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не
привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась
хозяйка — важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее
с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и
тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.
— Тетя, а тетя, — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда.
— Те... Тетечка.
Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.
— Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? — удивилась седая дама. — Это невежливо.
— Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки, — ангелочка.
— Нельзя, — равнодушно ответила хозяйка. — Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не
маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.
Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.
— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорил он.
Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела
впечатления.
— И хорошо сделаешь, мой друг, — ответила она так же равнодушно.
Сашка грубо сказал:
— Дай ангелочка.
— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Как ты этого не понимаешь?
Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней,
бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло
воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ,
стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель
рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но
теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со
стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.
— Да ты с ума сошел! — воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не
было. — Что с тобой?
Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо
потребовал:
— Дай ангелочка!
Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они
произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:
— Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не
хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, — поучительно добавила седая дама, —
не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.
«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.
Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил
пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.
— Красивая вещь, — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой
игрушки. — Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой,
что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так
просил, — солгала она.
Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже
скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.
— Ну, на
́
уж, на
́
, — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!
Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две
стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по
воздуху.
— А-ах! — вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его
сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая
ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой,
замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к
впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не
происходило на печальной, грешной и страдающей земле.
— А-ах! — пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И
перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, — и радостно
улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании
дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили
загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным
рукой неведомого художника личиком ангелочка.
Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку
пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него
ангелочка.
— Я домой пойду, — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. — К отцу.
III
Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за
перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через
закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.
— Хорош? — спрашивал шепотом Сашка.
Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.
— Да, в нем есть что-то особенное, — шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.
Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.
— Ты погляди, — продолжал отец, — он сейчас полетит.
— Видел уже, — торжествующе ответил Сашка. — Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь.
Цыц, не трогай!
Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно
шептал:
— Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!
На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной
большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная,
мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим
пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать
бесшумным трепетаньем, а все окружающее — бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол,
Сашка, — все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему
человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был
навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там
не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей.
Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше
жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался
неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы,
которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и
была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не
передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч света в
сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и
счастье, и жизнь.
И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И
для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и
черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты
Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое
горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким
божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные
крылышки.
Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные
сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть,
которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец
несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась
к чахоточной груди.
— Это она дала тебе? — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.
В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал
ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.
— А то кто же? Конечно, она.
Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и
часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.
— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? — задумчиво спросил отец.
— Нет, — сознался Сашка. — А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.
— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как
наяву...
Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее
дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким
звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить
тяжелую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и
старый человек.
— Ах, Саша, Саша! — всхлипывал отец. — Зачем все это?
— Ну, что еще? — сурово прошептал Сашка. — Совсем, ну совсем как маленький.
— Не буду... не буду, — с жалкой улыбкой извинился отец. — Что уж... зачем?
Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и
странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до
этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на
ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его
могли видеть оба — и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал,
отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.
— Что же ты не раздеваешься? — спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя
наброшенное на ноги пальто.
— Не к чему. Скоро встану.
Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой
быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и
безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который
еще только начинал жить.
А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию
Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на
картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались
густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска.
Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный
прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и,
дернув усиками, побежал дальше.
В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал
железным черпаком зазябший водовоз.
1899
Задание:
1. Какие обстоятельства жизни и особенности поведения главного героя позволяют называть его
Сашкой, а не Сашенькой или Сашей?
2. Почему Сашка не хотел идти к Свечниковым на елку?
3. Радует ли его елка? Как вы понимаете слово враждебная?
4.Что происходит с Сашкой когда он видит ангелочка? Докажите что чувства мальчика по
отношению к ангелочку сильны.
Аверченко Аркадий Тимофеевич (1880 — 1925) «Двойник»
Молодой человек Колесакин называл сам себя застенчивым весельчаком. Приятели называли его
забавником и юмористом, а уголовный суд, если бы веселый Колесакин попал под его отеческую руку,
разошелся бы в оценке характера веселого Колесакина и с ним самим и Колесакиновыми приятелями.
Колесакин сидел на вокзале небольшого провинциального города, куда он приехал на один день
по какому-то вздорному поручению старой тетки. Его радовало все: и телячья котлета, которую он ел, и
вино, которое он пил, и какая-то заблудшая девица в голубенькой шляпке за соседним столиком - все это
вызывало на приятном лице Колесакина веселую, благодушную улыбку.
Неожиданно за его спиной раздалось:
- А-а! Сколько зим, сколько лет!!
Колесакин вскочил, обернулся и недоумевающе взглянул на толстого красного человека, с лицом,
блестевшим от скупого вокзального света, как медный шар. Красный господин приветливо протянул
Колесакину руку и долго тряс ее, будто желая вытрясти все колесакинское недоумение:
- Ну как же вы, батенька, поживаете?
"Черт его знает, - подумал Колесакин, - может быть, действительно где-нибудь познакомились. Неловко
сказать, что не помню". И ответил:
- Ничего, благодарю. Вы как?
Медный толстяк расхохотался.
- Хо-хо! А что нам сделается?! Ваши здоровеньки?
- Ничего… Слава Богу, - неопределенно ответил Колесакин и, из вежливого желания поддержать с
незнакомым
толстяком разговор, спросил:
- Отчего вас давно не видно?
- Меня-то что! А вот вы, дорогой, забыли нас совсем. Жена и то спрашивает… Ах, черт возьми, -
вспомнил! Ведь
вы меня, наверное, втайне ругаете?
- Нет, - совершенно искренно возразил Колесакин. - Я вас никогда не ругал.
- Да, знаем… - хитро подмигнул толстяк. - А за триста-то рублей! Куриозно! Вместо того чтобы
инженер брал у
поставщика, инженер дал поставщику! А ведь я, батенька, в тот же вечер и продул их, признаться.
- Неужели?
- Уверяю вас! Кстати, что вспомнил… Позвольте рассчитаться. Большое мерси!
Толстяк вынул похожий на обладателя его, такой же толстый и такой же медно-красный бумажник
и положил перед Колесакиным три сотенных бумажки.
В Колесакине стала просыпаться его веселость и юмор.
- Очень вам благодарен, - сказал он, принимая деньги. - А скажите… не могли бы вы - услугу за услугу
— до послезавтра одолжить мне еще четыреста рублей? Платежи, знаете, расчет срочный… послезавтра
я вам пришлю,
а?
- Сделайте одолжение! Пожалуйте! В клубе как-нибудь столкнемся - рассчитаемся. А кстати: куда девать
те доски,
о которых я вам писал? Чтобы не заплатить нам за полежалое.
- Куда? Да свезите их ко мне, что ли. Пусть во дворе полежат.
Толстый господин так удивился, что высоко поднял брови, вследствие чего маленькие заплывшие
глазки его впервые как будто глянули на свет Божий.
- Что вы! Шутить изволите, батенька? Это три-то вагона?
- Да! - решительно и твердо сказал Колесакин. - У меня есть свои соображения, которые… Одним
словом, чтобы эти доски были доставлены ко мне - вот и все. А пока позвольте с вами раскланяться.
- Человек! Получи. Жене привет!
- Спасибо! - сказал толстый поставщик, тряся руку Колесакина. - Кстати, что Эндименов?
- Эндименов? Ничего, по-прежнему.
- Рипается?
- Ого!
- А она что
Колесакин пожал плечами.
- Что ж она… Ведь вы сами, кажется, знаете, что своего характера ей не переделать.
- Совершенно правильно, Вадим Григорьич! Золотые слова. До свиданья.
Это был первый веселый поступок, совершенный Павлушей Колесакиным. Второй поступок
совершился через час в сумерках деревьев городского чахлого бульвара, куда Колесакин отправился
после окончания несложных теткиных дел. Навстречу ему со скамейки поднялась стройная женская
фигура, и послышался радостный голос:
- Вадим! Ты?! Вот уж не ждала тебя сегодня! Однако как ты изменился за эти две недели! Почему не в
форме?
"А она прехорошенькая! - подумал Колесакин, чувствуя пробуждение своего неугомонного
юмора. - Моему двойничку-инженеру живется, очевидно, превесело".
- Надоело в форме! Ну, как ты поживаешь? - любезно спросил веселый Колесакин, быстро овладевая
своим
странным положением. - Поцелуй меня, деточка.
- Ка-ак? Поцелуй? Но ведь тогда ты говорил, что нам самое лучшее и честное расстаться?
- Я много передумал с тех пор, - сказал Колесакин дрожащим голосом, - и решил, что ты должна быть
моей!
Сядем вот здесь… Тут темно. Садись ко мне на колени…
- А знаешь что, - продолжал он потом, тронутый ее любовью, - переезжай послезавтра ко мне! Заживем
на славу.
Девушка отшатнулась.
- Как к тебе?! А… жена?
- Какая жена?
- Твоя!
- Ага!.. Она не жена мне. Не удивляйся, милая! Здесь есть чужая тайна, которую я не вправе открыть до
послезавтра… Она - моя сестра!
- Но ведь у вас же двое детей!
- Приемные! Остались после одного нашего друга. Старый морской волк… Утонул в Индийском океане.
Отчаянию не было пределов… Одним словом, послезавтра собирай все свои вещи и прямо ко мне на
квартиру.
- А… сестра?
- Она будет очень рада. Будем воспитывать вместе детей… Научим уважать их память отца!.. В долгие
зимние
вечера… Поцелуй меня, мое сокровище.
- Господи… Я, право, не могу опомниться… В тебе есть что-то чужое, ты говоришь такие странные
вещи…
- Оставь. Брось… До послезавтра… Мне теперь так хорошо… Это такие минуты, которые, которые…
….
В половине одиннадцатого ночи весельчак Колесакин вышел из сада утомленный, но довольный
собой и по-прежнему готовый на всякие веселые авантюры. Кликнул извозчика, поехал в лучший
ресторан и, войдя в освещенную залу, был встречен низкими поклонами метрдотеля.
- Давненько не изволили… забыли нас, Вадим Григорьич.
- Николай! Стол получше господину Зайцеву. Пожалуйте-с!
На эстраде играл какой-то дамский оркестр. Решив твердо, что завтра с утра нужно уехать,
Колесакин сегодня разрешил себе кутнуть. Он пригласил в кабинет двух скрипачек и барабанщицу,
потребовал шампанского, винограду и стал веселиться. После шампанского показывал жонглирование
двумя бутылками и стулом. Но когда разбил нечаянно бутылкой трюмо, то разочаровался в
жонглировании и обрушился с присущим ему в пьяном виде мрачным юмором на рояль: бил по
клавишам кулаком, крича в то же время:
- Молчите, проклятые струны!
В конце концов он своего добился: проклятые струны замолчали, за что буфетчик увеличил
длинный и печальный счет на 150 рублей…
Потом Колесакин танцевал на столе, покрытом посудой, грациозный танец неизвестного
наименования, а когда в соседнем кабинете возмутились и попросили вести себя тише, то Колесакин
отомстил за свою поруганную честь тем, что, схвативши маленький барабан, прорвал его кожу и
нахлобучил на голову поборника тишины. Писали протокол. Было мокро, смято и печально. Все
разошлись, кроме Колесакина, который, всеми покинутый, диктовал околоточному свое имя и фамилию:
- Вадим Григорьич Зайцев, инженер.
Счет на 627 рублей 55 коп. Колесакин велел отослать к себе на квартиру.
- Только, пожалуйста, послезавтра!
Уезжал Колесакин на другой день рано утром, веселый, ощущая в кармане много денег и в голове
приятную тяжесть. Когда он шел по пустынному перрону, сопровождаемый носильщиком, к нему
подошел высокий щеголеватый господин и строго сказал:
- Я вас поджидаю! Мы, кажется, встречались… Вы - инженер Зайцев?
- Да!
- Вы не отказываетесь от того, что говорили на прошлой неделе на журфиксе Заварзеевых?
- У Заварзеевых? Ни капельки! - твердо ответил Колесаюш.
- Так вот вам. Получите!
Мелькнула в воздухе холеная рука, и прозвучала сильная глухая пощечина.
- Милостивый государь! - вскричал Колесакин, пошатнувшись. - За что вы деретесь?..
- Я буду бить так всякого мерзавца, который станет утверждать, что я нечестно играю в карты!
И, повернувшись, стал удаляться. Колесакин хотел догнать его и сообщить, что он - не Зайцев,
что он пошутил…
Но решил, что уже поздно.
Когда ехал в поезде, деньги уже не радовали его и беспечное веселье потускнело и съежилось…
И при всей смешливости своей натуры, - веселый Колесакин совершенно забыл потешиться в душе над
странным
и тяжелым положением инженера Зайцева на другой день.
Задание:
1. Опишите главного героя, что в нем необычного, на ваш взгляд.
2. Ответьте на вопрос: Чему нас учит произведение?
3. Назовите одну из проблем, которую поднимает автор текста. Приведите аргументы.
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 — 1940) «Паршивый тип»
Если верить статистике, сочиненной недавно неким гражданином (я сам ее читал) и гласящей, что на
каждую тысячу людей приходится два гения и два идиота, нужно признать, что слесарь Пузырев был,
несомненно, одним из двух гениев. Явился этот гений Пузырев домой и сказал своей жене:
— Итак, Марья, жизненные мои ресурсы в общем и целом иссякли.
— Все-то ты пропиваешь, негодяй,— ответила ему Марья.— Что ж мы с тобой будем жрать теперь?
— Не беспокойся, дорогая жена,— торжественно ответил Пузырев,— мы будем с тобой жрать!
С этими словами Пузырев укусил свою нижнюю губу верхними зубами так, что из нее полилась ручьем
кровь. Затем гениальный кровопийца эту кровь стал слизывать и глотать, пока не насосался ею, как
клещ.
Затем слесарь накрылся шапкой, губу зализал и направился в больницу на прием к доктору Порошкову.
— Что с вами, голубчик? — спросил у Пузырева Порошков.
— По… мираю, гражданин доктор,— ответил Пузырев и ухватился за косяк.
— Да что вы? — удивился доктор.— Вид у вас превосходный.
— Пре… вос… ходный? Суди вас Бог за такие слова,— ответил угасающим голосом Пузырев и стал
клониться набок, как стебелек.
— Что ж вы чувствуете?
— Ут… ром… седни… кровью рвать стало… Ну, думаю, прощай… Пу… зырев… До приятного
свидания на том свете… Будешь ты в раю, Пузырев… Прощай, говорю, Марья, жена моя… Не поминай
лихом Пузырева!
— Кровью? — недоверчиво спросил врач и ухватился за живот Пузырева.— Кровью? Гм… Кровью, вы
говорите? Тут болит?
— О! — ответил Пузырев и завел глаза.— Завещание-то… успею написать?
— Товарищ Фенацетинов,— крикнул Порошков лекпому,— давайте желудочный зонд, исследование
сока будем делать.
— Что за дьявольщина! — бормотал недоумевающий Порошков, глядя в сосуд.— Кровь! Ей-богу, кровь.
Первый раз вижу. При таком прекрасном внешнем состоянии…
— Прощай, белый свет,— говорил Пузырев, лежа на диване,— не стоять мне более у станка, не
участвовать в заседаниях, не выносить мне более резолюций…
— Не унывайте, голубчик,— утешал его сердобольный Порошков.
— Что же это за болезнь такая, ядовитая? — спросил угасающий Пузырев.
— Да круглая язва желудка у вас. Но это ничего, можно поправиться,— во-первых, будете лежать в
постели, во-вторых, я вам порошки дам.
— Стоит ли, доктор,— молвил Пузырев,— не тратьте ваших уважаемых лекарств на умирающего
слесаря, они пригодятся живым… Плюньте на Пузырева, он уже наполовину в гробу…
«Вот убивается парень!» — подумал жалостливый Порошков и накапал Пузыреву валерианки.
На круглой язве желудка Пузырев заработал 18 р. 79 к., освобождение от занятий и порошки. Порошки
Пузырев выбросил в клозет, а 18 р. 79 к. использовал таким образом: 79 копеек дал Марье на хозяйство,
а 18 рублей пропил…
— Денег нету опять, дорогая Марья,— говорит Пузырев,— накапай-ка ты мне зубровки в глаза…
В тот же день на приеме у доктора Каплина появился Пузырев с завязанными глазами. Двое санитаров
вели его под руки, как архиерея. Пузырев рыдал и говорил:
— Прощай, прощай, белый свет! Пропали мои глазоньки от занятий у станка…
— Черт вас знает! — говорил доктор Каплин.— Я такого злого воспаления в жизнь свою не видал.
Отчего это у вас?
— Это у меня, вероятно, наследственное, дорогой доктор,— заметил рыдающий Пузырев.
На воспалении глаз Пузырев сделал чистых 22 рубля и очки в черепаховой оправе.
Черепаховую оправу Пузырев продал на толкучке, а 22 рубля распределил таким образом: 2 рубля дал
Марье, потом полтора рубля взял обратно, сказавши, что отдаст их вечером, и эти полтора и остальные
двадцать пропил.
Неизвестно где гениальный Пузырев спер пять порошков кофеину и все эти пять порошков слопал
сразу, отчего сердце у него стало прыгать, как лягушка. На носилках Пузырева привезли в амбулаторию
к докторше Микстуриной, и докторша ахнула.
— У вас такой порок сердца,— говорила Микстурина, только что кончившая университет,— что вас бы
в Москву в клинику следовало свезти, там бы вас студенты на части разорвали. Прямо даже обидно, что
такой порок даром пропадает!
Порочный Пузырев получил 48 р. и ездил на две недели в Кисловодск. 48 рублей он распределил таким
образом: 8 рублей дал Марье, а остальные сорок истратил на знакомство с какой-то неизвестной
блондинкой, которая попалась ему в поезде возле Минеральных Вод.
— Чем мне теперь заболеть, уж я и ума не приложу,— говорит сам себе Пузырев,— не иначе, как
придется мне захворать громаднейшим нарывом на ноге.
Нарывом Пузырев заболел за тридцать копеек. Он пошел и купил на эти тридцать копеек скипидару в
аптеке. Затем у знакомого бухгалтера он взял напрокат шприц, которым впрыскивают мышьяк, и при
помощи этого шприца впрыснул себе скипидар в ногу. Получилась такая штука, что Пузырев даже сам
взвыл.
«Ну, теперича мы на этом нарыве рублей пятьдесят возьмем у этих оболтусов докторов»,— думал
Пузырев, ковыляя в больницу.
Но произошло несчастье.
В больнице сидела комиссия. И во главе нее сидел какой-то мрачный и несимпатичный. В золотых
очках.
— Гм,— сказал несимпатичный и просверлил Пузырева взглядом сквозь золотые обручи,— нарыв,
говоришь? Так… Снимай штаны!
Пузырев снял штаны и не успел оглянуться, как ему вскрыли нарыв.
— Гм,— сказал несимпатичный,— так это скипидар у тебя, стало быть, в нарыве? Как же он туда попал,
объясни мне, любезный слесарь?..
— Не могу знать,— ответил Пузырев, чувствуя, что под ним разверзается бездна.
— А я могу! — сказали несимпатичные золотые очки.
— Не погубите, гражданин доктор,— сказал Пузырев и зарыдал неподдельными слезами без всякого
воспаления.
Но его все-таки погубили.
И так ему и надо.
1925 г.
Задание.
Ответить на вопросы -
1. О чем произведение?
2. Какие проблемы ставит автор текста?
3. Современен ли рассказ в наше время, почему?
Михаил Александрович Шолохов (1905 — 1984) «Судьба человека»
Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце
марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья
Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и
дороги стали почти совсем непроездны.
В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние
небольшое — всего лишь около шестидесяти километров, — но одолеть их оказалось не так-то просто.
Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле
тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со
снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже
показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло
лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.
Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами
хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально
поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть
покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.
Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной,
поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой
плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в
колхозном сарае нас ожидал старенький, видавший виды «виллис», оставленный там еще зимою.
Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу.
Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными
средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час
мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за
весло:
— Если это проклятое корыто не развалится на воде, — часа через два приедем, раньше не ждите.
Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в
безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой
горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий
ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.
Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить,
но сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка
«Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей
лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было,
бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою
оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной
раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.
Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут.
Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и
стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот
так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку,
сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в
блеклой синеве белыми грудастыми облаками.
Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку
маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к
переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя
вплотную, сказал приглушенным баском:
— Здорово, браток!
— Здравствуй. — Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.
Мужчина наклонился к мальчику, сказал:
— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на
грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.
Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело
протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:
— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?
С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял
белесые бровки.
— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал
потому что.
Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:
— Беда мне с этим пассажиром. Через него и я подбился. Широко шагнешь он уже на рысь переходит,
вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, — я три раза шагаю,
так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть
отвернешься, а он уже по лужине бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не
мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком. — Он
помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, свое начальство ждешь?
Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:
— Приходится ждать.
— С той стороны подъедут?
— Да.
— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?
— Часа через два.
— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-шофер
загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно. А ты богато
живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый,
никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.
Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый
потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от
ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».
Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с
ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:
— Ты что же, всю войну за баранкой?
— Почти всю.
— На фронте?
— Да.
— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.
Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало
что-то не по себе… Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой
неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного
собеседника.
Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку,
вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:
— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь,
меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке…
Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милок,
поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только,
гляди, ноги не промочи!
Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением
отметил про себя одно, странное на мой взгляд, обстоятельство Мальчик был одет просто, но добротно:
и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что
крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на
разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А
отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка
на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими
стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены
молью, их не коснулась женская рука… Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с
женой».
Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в
слух.
— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сак я уроженец Воронежской губернии, с тысяча
девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В
голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с
матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде,
никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу
работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена
воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная веселая, угодливая и
умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее
характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее
глядел, а в упор. И не было для меня красивее и желанней ее, не было на свете и не будет!
Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит
в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок
тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь:
«Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у
нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как
встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает —
иметь умную жену-подругу.
Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что
идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны, небось, глядеть страшно. Тесна
тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как
дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что
последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же
ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я
спьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с
кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что
она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит…
Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье
я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легости, нальет граненый
стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не
оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на
работу, как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как
бог свят, и на второй день напился. Так бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких
шалав, знаю.
Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год еще две девочки… Тут я от
товарищей откололся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В
выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.
В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой.
Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил
десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого
пожилого человека — приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как
та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и
вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса…
Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети
радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к
математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный
талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им,
страсть как гордился!
За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили тебе домишко об двух
комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с
молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я
неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте,
может, и жизнь сложилась бы иначе…
А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйте в эшелон.
Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята
держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами
передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый, год шел, а Ирина моя… Такой я ее за
все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха
от ее слез не просыхала, и утром такая же история… Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не
могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у
тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее
сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево… И детишки ее уговаривают, и я, — ничего не
помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к
ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая
моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает:
«Родненький мой… Андрюша… не увидимся мы с тобой… больше… на этом… свете»…
Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна
бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут
взяло! Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня!
была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки
протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо
хоронишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе…
Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то
клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни
единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив
голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали
твердые губы…
— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-
то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:
— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..
Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак
сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал кручёнку, несколько раз жадно затянулся и,
покашливая, продолжал:
— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался,
бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо
своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не
выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня,
не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра… Такой она и в
памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза,
полные слез… По большей части такой я ее и во сне всегда вижу… Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце
до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут…
Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт.
Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма
получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку
воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что
еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник
был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к
делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди
убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что
этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них
оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой
тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет
жалостное письмо — и трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и
руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть,
все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай
юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и
ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много!
Только не пришлось мне и года повоевать… Два раза за это время был ранен, но оба раза по
легости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой —
осколком снаряда. Дырявил немец мою машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых
порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки… Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок
второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша
стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину
снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала.
Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа
стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным…
Командир нашей! автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего
было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я
должен проскочить, и баста!» «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!»
Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом
осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми
руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро
мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать
честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыплет, и уже мины рвутся по их
порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь
километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось… Видно, из
дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в
голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и
сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не
могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то
скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя.
Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со
мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не
встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.
Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует, — сердце будто кто-то плоскогубцами
сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх
колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет… Это как?
Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный,
потому что понял, что я — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает…
Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре
не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта
штука.
Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном
газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал… Каково это было переживать? Потом
тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше
одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою:
тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно…
Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста
от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, — думаю, — и смерть моя
на подходе». Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких,
плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной
робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую
очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место
он в моем теле прострочит.
Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром.
«Этот убьет и не задумается», — соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул автомат — я ему прямо в
глаза гляжу, молчу, а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой, что-то
крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте
сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход
солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!
Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой:
«Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал
я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять
за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел
до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а, чего? Будто я с него
сапоги снял, а не он с меня.
Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым,
воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по
километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге,
как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я
был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со
мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я, — и он
пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса
вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил,
а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.
Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать
автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за
остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в
лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь
пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На
каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что
постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В
большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя
было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий
растелешенные, так и в плен попали.
Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым
снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в
алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном котухе. Среди
ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе
что надо, браток?» Он и говорит: «Я — военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я
пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит:
«Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать
своими тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно,
ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?»
А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял.
Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз
посыпались.
Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги
разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь
с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на
место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то
уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые
есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.
Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда
попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по
нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу, — говорит, — осквернять святой храм! Я же
верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются,
другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта
канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился:
дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех
человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.
Убитых! сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень
веселое… А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен
попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один
одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если
завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и
евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если
гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу
на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела».
Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то
молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда
ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты
сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному:
«Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не
выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, — говорит, — остались за
линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу
ближе».
Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет, думаю, — не дам я тебе,
сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как
падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за
голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой,
курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну, — думаю, — не справится этот парнишка с
таким толстым мерином. Придется мне его кончать».
Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только
головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежачего парня. Он обратно головою
кивнул. «Ну, — говорю, — держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого
парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут
несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык набоку!
До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека,
а какого-то гада ползучего душил… Первый раз в жизни убил, и то своего… Да какой же он свой? Он же
худее чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».
Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками, и
трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры,
комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и
коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были.
Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские
попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому,
спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и все.
Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до
самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмет мне руку. В Познани нас
разлучили по одной такой причине.
Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел
наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне
подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в
лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата
мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое
наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я! лопату и тихо пошел за
куст… А потом — бегом, держу прямо на восход солнца…
Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы
взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не
вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали
меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе. На заре побоялся я
идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я залег в овсе на дневку. Намял в
ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл
трещит… Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и
закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня
все мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один
кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.
На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на
меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь.
Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой… живой я остался!..
Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в
плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех
друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, а в глотке
бьется, и трудно становится дышать…
Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в
Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в
Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по
немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде
одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками
били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется,
не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.
Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей,
работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для
того чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от
побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии.
И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и
жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны
весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась
на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую
работу, что ломовой лошади и то не в пору.
В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека
советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было
около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили
немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого
чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух
человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь
хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь.
Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую
землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют.
И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас
хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться
негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером
нам еды не полагалось.
Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо,
а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся
же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.
Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого
роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы,
даже глаза у него были белесые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал,
будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и
учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идет перед
строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в
перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь
пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере
было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее.
Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как
идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он
матершинничает почем зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде
ветерком с родной стороны подувает… Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, уж
он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него
страшно. «Когда он ругается, — говорит, — я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу,
и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».
Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает
меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я
отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл.
Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному
двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-
лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта
утихла и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает
солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки
трудно…
В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все
лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая
здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами.
Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же
голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою… Кое-как задавил
тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.
Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки
в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками
щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр
комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это
много?» — «Так точно, — говорю, — герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» —
«Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».
Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова.
Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял,
подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял,
положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за
победу немецкого оружия».
Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услыхал эти слова, — меня будто огнем
обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-
чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей
водкой!»
Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я
непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель».
А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял
стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю:
«Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишете меня».
Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это
отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и
опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с
жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не
закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго
стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то
быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями
задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде
помягче.
Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил
врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым,
показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть
свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.
После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста,
вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты
храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же
сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас
большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость»,
— и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.
Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого
неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю:
«Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот
раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло…
Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал
на цементованный пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я
припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой
сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и
сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую
крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь, только губы помазать. Однако поделили без обиды.
Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую
область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили
Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную
смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до
войны работал шофером, — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам
поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех
врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по
строительству дорог и оборонительных сооружений.
Возил я на «оппель-адмирале» немца инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был
фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная
баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих
складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а
жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и
мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в
добром духе, — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за
низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить и понемногу стал я запохаживаться на
человека, помалу, но стал поправляться.
Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в
прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать
окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.
Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша
артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилось? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно
так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые
стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он
распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки
повисли…
«Ну, — думаю, — ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а
прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»
Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай,
если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне
надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем как распрощался с
немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками
держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял.
Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.
Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении
Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно
дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом
остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл
дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его
тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до
смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего
порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку
заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке.
Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя мундир и
пилотку, ну, и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.
Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я
нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда
ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и
начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.
Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех
местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями… Но вот уже лесок над озером, наши
бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне
нечем…
Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал,
первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий
мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я
тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова,
какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и
пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени
меня и накормили, и в банк сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в
блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый, и в полной форме. Полковник встал из-
за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой
гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати „языков“. Буду
ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих
слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить:
«Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть». Но полковник засмеялся, похлопал
меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в
госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а
когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить».
И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за
руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого
обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по
привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как
образовали нас в фашистских лагерях…
Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал
вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не
утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня! к награде представить…
Две недели спал и ел. Кормили помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог
загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог.
Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные
мыслишки в голову лезут… На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а
сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще в
июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку.
Ирина и дочери как раз были дома… Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки —
глубокая яма… Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и
никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во
время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в
город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.
Когда сердце разлезлось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною
моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней
на этом свете. А я ее тогда оттолкнул… Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в
единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в
плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал
их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все
вместе… Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!
Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:
— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.
Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил
сухие сережки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в
вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир,
готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.
Молчать было тяжело, и я спросил:
— Что же дальше?
— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от полковника месячный отпуск,
через неделю был в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка,
налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс… Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было
мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот
же день уехал обратно в дивизию.
Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий.
Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана
Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его
таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что
получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом,
обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын
— капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на
«студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана,
все впереди.
И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам
при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и
тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг
другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на
другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными
путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним
свидимся. Ну и свиделись… Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия
немецкий снайпер…
Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне
артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир
моей роты говорит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто
электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит:
«Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»
Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с
подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно
помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток.
Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий
мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза
полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках
губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал… Поцеловал я
его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают,
а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..
Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея
моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось… Приехал я
в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за
что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению, — он
когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.
Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и
имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля,
приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку
хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.
Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-
нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже
пристрастился как следует… И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять
вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах,
нечесаный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже,
чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился
— кто что даст.
На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой
там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу
ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда,
пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так
говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему
отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.
Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый
такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных
своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. Его ли это дело?
Опрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой
убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню…» — «И никого у
тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».
Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь
пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я
к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул:
«Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».
Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как
свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я
знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался
ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и
руки трясутся… Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал,
заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, — побоялся ехать, как бы на кого не наскочить.
Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я
его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою
квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.
Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил
мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке,
как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими
глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба
мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву.
Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да
как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник.
Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы
плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог,
она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!
После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в
чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать,
поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему
штанишки суконные, рубашонку, сандали и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту,
и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума
спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол,
порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая
рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул
спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как
воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами
не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку
встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него…
Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из
простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним
спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах
понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя…
Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному
мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело
другое: то молока ему надо добыть, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-
то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а
вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там. Трудно мне с ним было на
первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет,
как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня
спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда
не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А
почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю
Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? А
до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.
А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-
то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя
зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками
работает.
Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по
грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное
дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую
книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по
переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем,
тоже сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером, — и тот пригласил
меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут
тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком.
Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из
Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой
подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А
сейчас пока шагаем с ним по русской земле.
— Тяжело ему идти, — сказал я.
— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет
промяться, — слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего
бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять… Иной
раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и
напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне
вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону…
Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, — они
уходят от меня, будто тают на глазах… И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из
меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез…
В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.
Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево,
руку:
— Прощай, браток, счастливо тебе!
— И тебе счастливо добраться до Кашар.
— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.
Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил
рядом с широко шагавшим мужчиной.
Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом
невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек
несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все
вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.
С тяжелой грустью смотрел я им вслед… Может быть, все и обошлось бы благополучно при
нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на
ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне
сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны
мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не
ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза…
1956–1957
Вопросы к произведению М. А. Шололхова «Судьба человека»:
1. Как вы понимаете слово «судьба»? Приходилось ли вам задумываться о судьбе какого-то
человека, о судьбе целого народа, о собственной судьбе?
2. В кратком словаре синонимов русского языка слову «судьба» даны такие синонимы: «доля»,
«удел», «жребий», «участь», «предопределение», «рок», «фатум». Смогли бы вы объяснить разницу
между этими словами?
3. Как вы понимаете название рассказа «Судьба человека»? Почему не «Судьба Соколова»?
Попробуйте доказать, что это, название, данное автором, самое удачное.
4. Составьте план рассказа и выделите в нем тот пункт, который указывает на кульминацию.
5. Чем определяется новаторство рассказа М. Шолохова «Судьба человека»?
Александр Иванович Солженицын (1918 — 2008) Рассказы.
Колокольня
Кто хочет увидеть единым взором, в один окоём, нашу недотопленную Россию – не упустите посмотреть на
калязинскую колокольню.
Она стояла при соборе, в гуще изобильного торгового города, близ Гостиного двора, и на площадь к ней
спускались улицы двухэтажных купеческих особняков. И никакой же провидец не предсказал тогда, что древний
этот город, переживший разорения жестокие и от татар, и от поляков, на своём восьмом веку будет,
невежественной волей самодурных властителей, утоплен на две трети в Волге: всё бы спасла вторая плотина, да
поскудились большевики на неё. (Да что! – Молóга и вся на дне.) И сегодня, стань на прибрежной грани, – даже
воображению твоему уже не подъять из хляби этот изневольный Китеж, или Атлантиду, ушедшую на дюжину
саженей глубины.
Но осталась от утопленного города – высокостройная колокольня. Собор взорвали или растащили на
кирпичи ради нашего будущего – а колокольню почему-то не доспели свалить, даже вовсе не тронули, как
заповедную бы. И – вот, стоит из воды, добротнейшей кладки, белого кирпича, в шести ярусах сужаясь кверху
(полтора яруса залито), в последние годы уж и отмостку присыпали к ней для сохранности низа, – стоит,
нисколько не покосясь, не искривясь, пятью просквоженными пролётами, а дальше луковкой и шпилем – в
небо! Да ещё на шпиле – каким чудом? – крест уцелел. От крупных волжских теплоходов, не добирающих
высотой, как издали глянуть, и на пол-яруса, – шлёпают волны по белым стенам, и с палуб уже пятьдесят лет
глазеют советские пассажиры.
Как по израненным, бродишь по грустным уцелевшим улочкам, где и с покошенными уже домишками тех
поспешно переселённых затопленцев. На фальшивой набережной калязинские бабы, сохраняя старую
приверженность к исконной мягкости и чистоте волжской воды, тщатся выполаскивать бельё. Полузамерший,
переломленный, недобитый город, с малым остатком прежних отменных зданий. Но и в этой запусти у
покинутых тут, обманутых людей нет другого выбора, как жить. И жить – здесь.
И для них тут, и для всех, кто однажды увидел это диво: ведь стоит колокольня! Как наша надежда. Как наша
молитва: нет, всю Русь до конца не попустит Господь утопить…
Путешествуя вдоль Оки
Пройдя просёлками Средней России, начинаешь понимать, в чём ключ умиротворяющего русского пейзажа.
Он – в церквах. Взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевнами белыми и красными вышедшие
к широким рекам, колокольнями стройными, точёными, резными поднявшиеся над соломенной и тёсовой
повседневностью – они издалека-издалека кивают друг другу, они из сёл разобщённых, друг другу невидимых,
поднимаются к единому небу.
И где б ты в поле, в лугах ни брёл, вдали от всякого жилья, – никогда ты не один: поверх лесной стены, стогов
намётанных и самой земной округлости всегда манит тебя маковка колоколенки то из Борок Ловецких, то из
Любичей, то из Гавриловского.
Но ты входишь в село и узнаёшь, что не живые – убитые приветствовали тебя издали. Кресты давно
сшиблены или скривлены; ободранный купол зияет остовом поржавевших рёбер; растёт бурьян на крышах и в
расщелинах стен; редко ещё сохранилось кладбище вокруг церкви; а то свалены и его кресты, выворочены
могилы; заалтарные образы смыты дождями десятилетий, исписаны похабными надписями.
На паперти – бочки с соляркой, к ним разворачивается трактор. Или грузовик въехал кузовом в дверь
притвора, берёт мешки. В той церкви подрагивают станки. Эта – просто на замке, безмолвная. Ещё в одной и
ещё в одной – клубы. "Добьёмся высоких удоев!". "Поэма о море". "Великий подвиг".
И всегда люди были корыстны, и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем,
над лесом. Напоминал он, что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать мысли – вечности. Этот
звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом напеве, поднимал людей от того, чтоб опуститься на
четыре ноги.
В эти камни, в колоколенки эти, наши предки вложили всё своё лучшее, всё своё понимание жизни.
Ковыряй, Витька, долбай, не жалей! Кино будет в шесть, танцы в восемь…
Старое ведро
Ox, да и тоскливо же бывшему фронтовику бродить по Картунскому бору. Какая-то земля здесь такая, что
восемнадцатый год сохраняются, лишь чуть обвалились, не то что полосы траншей, не то что огневые позиции
пушек – но отдельная стрелковая ячейка маленькая, где неведомый Иван хоронил своё большое тело в
измызганной короткой шинельке. Брёвна с блиндажных перекрытий за эти годы, конечно, растащили, а ямы
остались ясные.
Хоть в этом самом бору я не воевал, а – рядом, в таком же. Хожу от блиндажа к блиндажу, соображаю, где
что могло быть. И вдруг у одного блиндажа, у выхода, наталкиваюсь на старое, восемнадцать лет лежалое, а и
до тех восемнадцати уже отслужившее ведро.
Оно уж тогда было худое, в первую военную зиму. Может, из деревни сгоревшей подхватил его
сообразительный солдатик да стенки ко дну ещё на конус смял и приладил его переходом от жестяной печки в
трубу. Вот в этом самом блиндаже в ту тревожную зиму, дней девяносто, а может сто пятьдесят, когда фронт тут
остановился, гнало худое ведро через себя дым. Оно накалялось шибко, от него руки грели, от него прикуривать
можно было, и хлеб близ него подрумянивали. Сколько дыму через себя ведро пропустило – столько и мыслей
невысказанных, писем ненаписанных – от людей, уже, может быть, покойных давно.
А потом как-нибудь утром, при весёлом солнышке, боевой порядок меняли, блиндаж бросали, командир
торопил свою команду – "ну! ну!" – ординарец печку порушил, втиснул её всю на машину, и колена все, а
худому ведру места не нашлось. "Брось ты его, заразу! – старшина крикнул. – Там другое найдёшь!" Ехать было
далеко, да и дело уж к весне поворачивало, постоял ординарец с худым ведром, вздохнул – и опустил его у
входа.
И все засмеялись.
С тех пор и брёвна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик – а худое верное ведро так и осталось у
своего блиндажа.
Стою над ним, нахлынуло. Ребята чистые, друзья фронтовые! Чем были живы мы и на что надеялись, и
самая дружба наша безкорыстная – прошло всё дымом, и никогда уж больше не служить этому ржавому,
забытому…
Озеро Сегден
Об озере этом не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, как к волшебному замку; над
всеми дорогами висит знак запретный, простая немая чёрточка. Человек или дикий зверь, кто увидит эту
чёрточку над своим путём – поворачивай! Эту чёрточку ставит земная власть. Эта чёрточка значит: ехать нельзя и
лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя.
А близ дорог в сосновой чаще сидят в засаде постовые с турчками и пистолетами.
Кружишь по лесу молчаливому, кружишь, ищешь, как просочиться к озеру, – не найдёшь, и спросить не у
кого: напугали народ, никто в том лесу не бывает. И только вслед глуховатому коровьему колокольчику
проберёшься скотьей тропой в час полуденный, в день дождливый. И едва проблеснёт тебе оно, громадное,
меж стволов, ещё ты не добежал до него, а уж знаешь: это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век.
Сегденское озеро – круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега (но ты не крикнешь,
чтоб тебя не заметили) – до другого только эхо размытое дойдёт. Далеко. Обомкнуто озеро прибрежным лесом.
Лес ровен, дерево в дерево, не уступит ни ствола. Вышедшему к воде, видна тебе вся окружность замкнутого
берега: где жёлтая полоска песка, где серый камышок ощетинился, где зелёная мурава легла. Вода ровная-
ровная, гладкая без ряби, кой-где у берега в ряске, а то прозрачная белая – и белое дно.
Замкнутая вода. Замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, небо – в озеро. И есть ли ещё что на земле –
неведомо, поверх леса – не видно. А если что и есть – оно сюда не нужно, лишнее.
Вот тут бы и поселиться навсегда… Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и
текли бы чистые глубокие мысли.
Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро: вон дача его, купальни его. Злоденята ловят рыбу,
бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, а погодя – выстрел.
Там, за лесами, горбит и тянет вся окружная область. А сюда, чтоб никто не мешал им, – закрыты дороги,
здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы: кто-то костёр раскладывал, притушили в начале и
выгнали.
Озеро пустынное. Милое озеро.
Родина…
Задание:
1. Напишите, какие темы поднимает автор произведения.
2. Какие проблемы раскрывает автор произведения.
Василий Макарович Шукшин (1929 - 1974) «Боря»
В палату привели новенького. Здоровенный парень, полный, даже с брюшком, красивый, лет
двадцати семи, но с разумом двухлетнего ребенка. Он сразу с порога заулыбался и всем громко сказал:
-- Пивет, пивет!
Многие, кто лежал тут уже не первый раз, знали этого парня. Боря. Живет у базара с отцом и
матерью, в воскресные дни, когда народу на базаре много, открывает окно и лает на людей, не зло лает -
- весело. Он вообще добрый.
-- Пивет, Боря, пивет! Ты зачем сюда? Чего опять натворил?
Няня, устраивая Боре постель, рассказывает:
-- Матерю с отцом разогнал наш Боря.
-- Ты што же это, Боря?! Мать с отцом побил?
Боря зажмуривает глаза и энергично трясет головой:
-- Босе не бу, не бу, не бу!.. -- больше не будет.
-- За што он их?
-- Розу не купили! Стал просить матерю -- купи ему розу, и все.
-- Босе не бу, не бу!
-- Ложись теперь и лежи. "Не бу!"
-- А мама пидет? -- пугается Боря, когда няня уходит.
-- Мама пидет, пидет, -- успокаивают его больные. -- Сам разогнал, а теперь -- мама.
В палате стало несколько оживленнее. С дурачками, я заметил, много легче, интереснее, чем с
каким-нибудь умницей, у которого из головы не идет, что он -- умница. И еще: дурачки, сколько я их
видел, всегда почти люди добрые, и их жалко, и неизбежно тянет пофилософствовать. Чтоб не
философствовать в конце -- это всегда плохо, -- скажу теперь, какими примерно мыслями я
закончил свои наблюдения за Борей (сказать все-таки охота). Я думал: "Что же жизнь -- комедия или
трагедия?" Несколько красиво написалось, но мысль по-серьезному уперлась сюда; комедия или тихая,
жуткая трагедия, в которой все мы -- от Наполеона до Бори -- неуклюжие, тупые актеры, особенно
Наполеон со скрещенными руками и треуголкой. Зря все-таки воскликнули: "Не жалеть надо
человека!.." Это тоже -- от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать -- да. Только ведь уважение --
это дело наживное, приходит с культурой. Жалость -- это выше нас, мудрее наших библиотек...
Мать -- самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное -- вся состоит из жалости. Она
любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра – много всякого, но неизменно, всю жизнь --
жалеет. Тут Природа распорядилась за нас. Отними-ка у нее жалость, оставь ей высшее
образование, умение воспитывать, уважение... Оставь ей все, а отними жалость, и жизнь в три
недели превратится во всесветный бардак. Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге
враг? Оттого, что всем жалко всех матерей, детей, родную землю. Жалко! Можете не соглашаться,
только и я знаю -- и про святой долг, и про честь, и достоинство, и т.п. Но еще -- в огромной мере --
жалко.
Ну, самая пора вернуться к Боре. Я не специально наблюдал за ним, но думал о нем много.
Целыми днями в палате, в коридоре только и слышалось:
-- Пиве-ет! А мама?.. Пидет?
-- Придет, Боря, придет, куда она денется. Пусть хоть маленько отдохнет от тебя.
Боря смеется, счастливый, что мама придет.
-- Атобус, атобус?.. Да?
-- На автобусе, да.
Даже когда мы отходим ко сну, Боря все спрашивает:
-- Мама пидет?
Он никому не надоедает. Уколы переносит стойко, только сильно жмурится и изумленно говорит:
--Больно!
И потом с восторгом всем говорит, что было больно.
Над ним не смеются, охотно отвечают, что мама "придет, придет" -- больше, сложнее Боря
спрашивать не умеет.
Один раз я провел, как я теперь понимаю, тоже довольно неуклюжий
эксперимент. Боря сидел на скамеечке во дворе... Я подсел рядом, позвал:
-- Боря.
Боря повернулся ко мне, а я стал внимательно глядеть ему в глаза. Долго глядел... Я хотел понять:
есть ли там хоть искра разума или он угас давно, совсем? Боря тоже глядел на меня. И я не наткнулся
-- как это бывает с людьми здравыми -- ни на какую мысль, которую бы я прочел в его глазах, ни на
какой молчаливый вопрос, ни на какое недоумение, на что мы, смотрящие
здравым в глаза, немедленно тоже молча отвечаем -- недоумением, презрением, вызывающим:
"Ну?" В глазах Бори всеобъемлющая, спокойная доброжелательность, какая бывает у мудрых
стариков. Мне стало не по себе.
-- Мама пидет, -- сказал я, и стало совсем стыдно. А встать и уйти сразу -- тоже стыдно.
-- Мама пидет? Да? -- Боря засмеялся, счастливый.
-- Пидет мама, пидет, -- я оглянулся -- не наблюдает ли кто за мной?
Это было бы ужасно. У всех как-то это легко, походя получается. "Мама пидет, Боря! Пидет". И
все. И идут по своим делам -- курить, умываться, пить лекарство. Я сидел на скамеечке, точно прирос
к ней, не отваживался еще раз сказать:
"Мама пидет". И уйти тоже не мог -- мне казалось, что услышу -самое оскорбительное, самое
уничтожающее, что есть в запасе у человека, - смех в спину себе.
-- Атобус? Да?
-- Да, да -- на автобусе приедет, -- говорил я и отводил глаза в сторону.
-- Пивет! -- воскликнул Боря и пожал мне руку. Хоть умри, мне казалось, что он издевается надо
мной. Я встал и ушел в палату. И потом незаметно следил за Борей -- не смеется ли он, глядя на
меня со своей кровати. Надо осторожней с этим народом.
Боря умеет подолгу неподвижно сидеть на скамеечке... Сидит, задумчиво смотрит перед собой.
Я в такие минуты гляжу на него со стороны и упорно думаю: неужели он злиться умеет? Устроил же
скандалевич дома из-за того, что ему не купили розу. Расплакался, начал стулья кидать, мать
подвернулась -- мать толканул, отца... Тогда почему же он -- недоумок?
Это вполне разумное решение вопроса: вымещать на близких досаду, мы все так делаем. Или он
не понимает, что сделал? Досаду чувствует, а обиду как следует причинить не умеет... В соседней
палате объявился некий псих с длинными руками, узколобый. Я боюсь чиновников, продавцов и вот
таких, как этот горилла. А они каким-то чутьем угадывают, кто их боится. Однажды один чиновник
снисходительно, чуть грустно улыбаясь, часа два рассказывал мне, как ему сюда вот, в шею, угодила
кулацкая пуля... "Хорошо, что рикошетом, а то бы... Так что если думают, что мы только за столами
сидеть умеем, то..." И я напрягался изо всех сил, всячески показывал, что верю ему, что мне очень
интересно все это.Горилла сразу же, как пришел, заарканил меня в коридоре и долго, бурно рассказывал,
как он врезал теще, соседу, жене... Что у него паспорт в милиции. "Я пацан с веселой душой, я не
люблю, когда они начинают мне..." Как-то горилла зашел в нашу палату, хохочет.
-- Этот, дурак ваш... дал ему сигарету: ешь, говорю, сладкая. Всю съел!
Мы молчали. Когда вот так вот является хам, крупный хам, и говорит со смехом, что он только
что сделал гадость, то всем становится горько. И молчат. Молчат потому, что разговаривать
бесполезно. Тут надо сразу бить табуреткой по голове -- единственный способ сказать хаму, что он
сделал нехорошо. Но возню тут, в палате, с ним никто не собирается затевать. Он бы с удовольствием
затеял. Один преждевременный старичок, осведомитель по склонности души, пошел к сестре и
рассказал, что "пацан с веселой душой" заставил Борю съесть сигарету. Сестра нашла "пацана" и стала
отчитывать. "Пацан" обругал ее матом. Сестра -- к врачу. Распоряжение врача: выписать
за нарушение режима. "Пацан" уходил из больницы, когда все были во дворе.
-- До свиданья, урки с мыльного завода! -- громко попрощался он. И засмеялся. Не знаю, не стану
утверждать, но, по-моему, наши самые далекие предки очень много смеялись.
Больница наша -- за городом, до автобуса идти километра два леском. Четверо, кто полегче на
ногу и понадежней в плечах, поднялись и пошли наперерез "пацану с веселой душой". Через минут
двадцать они вернулись, слегка драные, но довольные. У одного надолго, наверно, зажмурился левый
глаз. Четверо негромко делились впечатлениями.
-- Здоровый!..
-- Орал?
-- Матерился. Права качать начал, рубашку на себе порвал, доказывал, что он блатной.
На крыльце появляется Боря и к кому-то опять бросается с протянутой рукой.
-- Пиве-ет!
-- Пивет, Боря, пивет.
-- А мама пидет?
-- Пидет, пидет.
Жарко. Хоть бы маленький ветерок, хоть бы как-нибудь расколыхать этот
душный покой... Скорей бы отсюда – куда-нибудь!
1973
Задание:
Какую проблему раскрывает автор произведения?
Людмила Стефановна Петрушевская (1938 — наши дни) «Гость»
Я пригласила все-таки к себе в гости этого Толю, этого очаровательного Толю, у которого щеки
уже начинают обвисать, и сказала ему:
— Толя, ну зачем же вы стареете, так рано и стареете, помните, каким вы были очаровательным
в молодости?
И все у нас в порядке, музыка играет, свеча горит, к утру от нее остался в подсвечнике один
горелый фитиль. Толя, как всегда, нудный до предела, заводит речь издалека, открывает бутылку, я
приношу с кухни жареной картошки, Толя легонько накладывает себе вилочкой на тарелочку,
добавляет грибков, сидит, руки на коленях, затем наливает по полной и в стаканы пиво, чтобы
запивать.
Конечно, это была с самого начала безумная затея — запивать пивом водку, но я как-то этому не
придала значения, мне все было трын-трава в этот вечер, а может быть, я именно этому придавала
большое значение. Во всяком случае, мы были одни, наутро соседи могли черт знает что подумать, тем
более что все так невероятно кончилось, но это тоже меня не волновало и не волнует.
Короче говоря, Толя заводит речь издалека, говорит своим нежным голосом какую-то чушь, хотя
он одарен необыкновенно тонким вкусом и все ощущает так, как надо. Но все это он говорит так долго,
нудно, пережевывает все одну и ту же мысль, что он потерян, что потерял нить жизни, что его ничто не
волнует, никакие вещи, что он иногда сам для себя решает что-нибудь совершить, испытать, кидается в
крайности, но остается все таким же равнодушным.
— Толя,— говорю я ему,— неужели вам никогда не хочется радости, счастья, неужели вы не
язычник, не поклонник земли и неба?
— Нет, я хотел бы страдания, я хотел бы страдать, я не умею радоваться, вот честное слово, не
способен радоваться.
— Толя,— говорю я ему,— ну а вот эти ваши бесконечные дни рождения у ваших подруг и
друзей, неужели эти праздники вас не развлекают? Я понимаю, конечно, но все-таки иногда надо быть
немного и язычником, надо поклоняться просто земле, ее радостям, вину…
— Нет,— оживляется Толя,— я только приезжаю домой на такси, и лишняя трата нервов просить
у мамы деньги каждую ночь.
— Но вот консерватория…
— А что консерватория,— задумчиво говорит Толя,— выходить оттуда просветленным, как у нас
дома старая Лиза? Если мать ее побьет, обругает, выгонит из кухни, она идет в церковь и возвращается
оттуда просветленная, простившая. Я потому такой странный,— говорит Толя,— что мать меня родила,
когда ей было сорок, а отцу пятьдесят.
— Вы считаете, что тут сыграло свою роль то, что они вас очень любили и ласкали?
— Нет,— отвечает Толя,— дело, видимо, не в этом.
Он начинает распространяться долго и нудно о том, насколько тяготеет над человеком тайна его
рождения.
— Толя,— говорю я ему после долгих, нудных разговоров о том, что человек предопределен еще
до своего рождения,— но почему все-таки вы мне звоните? Звоните и звоните. Я иногда подхожу к
телефону, вы чувствуете, как я с вами разговариваю, как стесненно у меня это выходит? Я просто никак
не могу истолковать, зачем я вам нужна. Я даже сама, когда звоню вам, тоже не могу никак
истолковать, зачем я звоню вам, и каждый раз перед этим останавливаюсь у телефона, но каждый раз,
не поняв ничего, насильственно набираю ваш номер и веду какие-то насильственные, не освященные
никакой целью разговоры. У вас, наверное, тоже такое чувство, что вы не понимаете, зачем я вам опять
позвонила, и долго над этим размышляете, но ничего не понимаете и все-таки через какое-то время
опять идете к телефону и звоните мне. Зачем вы мне звоните, ну вот скажите, Толя? Я уверена, что вы
не знаете зачем. Только совершенно откровенно, нам с вами друг другу нечего скрывать и не к чему.
— Вы мне нравитесь. А вы зачем мне звоните?
— Я хочу вас понять. Все эти ваши слова — они как-то проходят мимо меня, я никак их не
соединяю с вами, с вашим прелестным обликом. Мне иногда кажется, что я протягиваю руку к вам и
моя рука проходит сквозь вашу грудь и сквозь вас. Вы понимаете? Вы чем-то бесплотны, или мне это
кажется, или я ошибаюсь, но я снова и снова убеждаюсь, что я права.
— Вы ведь сами парадизка.
— В каком смысле, Толя? В каком смысле я парадизка? Парадиз — это рай? Как это я парадизка?
Вы можете мне это объяснить? У меня опять такое ощущение, что, если я до вас дотронусь, моя рука
пройдет насквозь. Если я до вас дотронусь, то я просто дотронусь до спинки стула.
Толя пожимает плечами и пьет пиво.
— Послушайте, Толя, у меня опять такое чувство, которое охватывает меня, когда я подхожу к
телефону, чтобы позвонить вам. Зачем все это нужно? Это как-то неестественно, напряженно, у вас нет
такого ощущения? Зачем вы мне звоните, зачем вот вы ко мне пришли и я жарила картошку,
причесывалась, зачем? Зачем вы покупали водку и особенно пиво, зачем пиво, запивать? Как это
можно, запивать водку пивом? Зачем это нужно? Что вы мне на это скажете? Ну пиво-то зачем?
— Запивать. Это так принято.
— Ну и что дальше?
— Что — дальше?
— Ну, запьем водку пивом, заедим картошкой, а дальше? Я не в том смысле, что нам с вами
предпринять и какое у нас может быть будущее, а просто: что дальше? Что же дальше-то? Ладно, Толя,
расскажите, как у вас дела на работе. Я же ничего о вас не знаю, как вы там работаете? Не
замыкайтесь, пожалуйста, у нас ведь не может быть тайн друг от друга, мы ничем не связаны. У людей,
которые ничем не связаны, как мы с вами, как попутчики в поезде, как больные в больнице, не должно
быть тайн. Мы не заинтересованы друг в друге, правда, Толя? Вы скажите: да! Если вы будете так
сидеть надувшись, я вас отправлю домой. Правда, мы не заинтересованы друг в друге? Ну что же?
— Почему надувшись, я слушаю вас. Я могу сказать еще раз, что вы мне нравитесь. Давайте
выпьем: такой стол, такая водка, такие грибки.
— Вы все-таки в чем-то язычник, сознайтесь, Толя! Я вас все-таки разгадала, несмотря на то что
вы мне все еще не известны. Вы любите вашу работу? Сколько вы получаете? У вас там хорошо платят?
— У нас там платят маловато.
— А вы? Сколько вы? Я хочу о вас знать!
— Я получаю пока там маловато, но у меня два свободных дня. То есть как свободных: я беру
перед тем массу папок с собой домой и предупреждаю начальницу, что я буду работать дома. Через
день я приношу все эти папки обратно на работу.
— Боже мой, давайте выпьем, Толя! Налейте мне и пива, все равно.
— Я очень хорошо устроился, практически приходится бывать на службе три дня в неделю.
— За ваше здоровье, Толя, наверно, когда вам было восемнадцать лет, вы были безумно
прелестны. У вас еще год назад были волосы другого цвета, сейчас вы потемнели, а тогда у вас были
прелестные волосы, какого-то необыкновенного цвета.
— В восемнадцать лет,— отвечает Толя, запрокинув голову и глядя издали на свечу,— в
восемнадцать лет я ничего не помню, у меня ничего не отложилось в памяти, так как я был занят
половым созреванием.
— Безумно интересно, Толя! Это какие-то новые нотки у вас появились, это, наверно, виновато
пиво, которым вы так усердно запиваете водку. Ну, ничего. Что же с вами было в восемнадцать лет?
Потом, я слышала, вы были женаты и теперь разошлись. Не надо расходиться, это безумно больно.
— Ничего, ничего там не было такого. Это был брак по расчету. Моей жене необходимо было
как-то закрепиться здесь, ей нужно было, чтобы у ее дочери была фамилия и так далее.
— Ну а у вас, какой расчет был у вас, Толя? Какую выгоду для себя вы приобрели, какой смысл
был вам жениться на женщине с ребенком? Это придало вам солидности? В этом я вас не понимаю. Не
таитесь, откройтесь мне как другу. Вы ведь скрываете все от меня, а это нехорошо. Вы ведь были
прелестны, если бы не ваши щеки, не надо так пить, Толя! Это вас старит, вы не должны стариться, как
бог Эрос!
— Разрешите, я на минуточку прилягу,— ответил мне на все это Толя и лег на тахту и проспал до
девяти часов утра. Я все убрала и сидела, как в прошлом веке, со свечой, а потом достала пижамку из-
под головы Толи, из-под подушки, и легла спать на раскладушку, благо у меня вся постель была убрана
в шкаф.
Ночью Толя один раз вскочил и быстро-быстро забормотал: «В этой комнате раньше был выход,
а теперь в этой комнате нет выхода».— «Что вы, Толя,— ответила я ему,— что с вами?» Он сидел на
тахте одетый, желтый при свете свечи, а потом сказал: «Одну минуточку»,— и опять упал и проснулся
как ни в чем не бывало в девять часов утра.
Я уже в это время пила чай на кухне, что-то мне захотелось чаю, и думала, в какое дурацкое
положение перед соседями поставил меня этот Толя. Толя же проснулся как ни в чем не бывало, попил
со мной чаю и до двенадцати дня сидел и опять долго и нудно говорил о том, насколько у него в
сознании распалась связь времен, рассказывал содержание фильма, которого я еще не видела, и в
заключение попрощался и вышел.
Теперь у меня от всего этого головная боль.
Я еще не знаю, что через год он покончит с собой, бросившись из окна.
2001
Задание – напишите сочинение по заданному тексту:
1. О чем произведение?
2. Какие проблемы ставит автор текста?
3. Современен ли рассказ в наше время, почему?
4. Согласны ли вы с позицией автора?
Рассказы о войне
Рассказ из книги священника Александра Дьяченко (1965 — наши дни) «Преодоление»
— Я не всегда была старой и немощной, я жила в белорусской деревне, у меня была семья, очень
хороший муж. Но пришли немцы, муж, как и другие мужчины, ушел в партизаны, он был их
командиром. Мы, женщины, поддерживали своих мужчин, чем могли. Об этом стало известно немцам.
Они приехали в деревню рано утром. Выгнали всех из домов и, как скотину, погнали на станцию в
соседний городок. Там нас уже ждали вагоны. Людей набивали в теплушки так, что мы могли только
стоять. Ехали с остановками двое суток, ни воды, ни пищи нам не давали. Когда нас наконец выгрузили
из вагонов, то некоторые были уже не в состоянии двигаться. Тогда охрана стала сбрасывать их на
землю и добивать прикладами карабинов. А потом нам показали направление к воротам и сказали:
«Бегите». Как только мы пробежали половину расстояния, спустили собак. До ворот добежали самые
сильные. Тогда собак отогнали, всех, кто остался, построили в колонну и повели сквозь ворота, на
которых по-немецки было написано: «Каждому — свое». С тех пор, мальчик, я не могу смотреть на
высокие печные трубы.
Она оголила руку и показала мне наколку из ряда цифр на внутренней стороне руки, ближе к
локтю. Я знал, что это татуировка, у моего папы был на груди наколот танк, потому что он танкист, но
зачем колоть цифры?
— Это мой номер в Освенциме.
Помню, что еще она рассказывала о том, как их освобождали наши танкисты и как ей повезло
дожить до этого дня. Про сам лагерь и о том, что в нем происходило, она не рассказывала мне ничего,
наверное, жалела мою детскую голову.
Об Освенциме я узнал уже позднее. Узнал и понял, почему моя соседка не могла смотреть на
трубы нашей котельной.
Мой отец во время войны тоже оказался на оккупированной территории. Досталось им от немцев,
ох, как досталось. А когда наши погнали немчуру, то те, понимая, что подросшие мальчишки —
завтрашние солдаты, решили их расстрелять. Собрали всех и повели в лог, а тут наш самолетик —
увидел скопление людей и дал рядом очередь. Немцы на землю, а пацаны — врассыпную. Моему папе
повезло, он убежал, с простреленной рукой, но убежал. Не всем тогда повезло.
В Германию мой отец входил танкистом. Их танковая бригада отличилась под Берлином на
Зееловских высотах. Я видел фотографии этих ребят. Молодежь, а вся грудь в орденах, несколько
человек — Герои. Многие, как и мой папа, были призваны в действующую армию с оккупированных
земель, и многим было за что мстить немцам. Поэтому, может, и воевали так отчаянно храбро.
Шли по Европе, освобождали узников концлагерей и били врага, добивая беспощадно. «Мы
рвались в саму Германию, мы мечтали, как размажем ее траками гусениц наших танков. У нас была
особая часть, даже форма одежды была черная. Мы еще смеялись, как бы нас с эсэсовцами не спутали».
Сразу по окончании войны бригада моего отца была размещена в одном из маленьких немецких
городков. Вернее, в руинах, что от него остались. Сами кое-как расположились в подвалах зданий, а вот
помещения для столовой не было. И командир бригады, молодой полковник, распорядился сбивать
столы из щитов и ставить временную столовую прямо на площади городка.
«И вот наш первый мирный обед. Полевые кухни, повара, все, как обычно, но солдаты сидят не
на земле или на танке, а, как положено, за столами. Только начали обедать, и вдруг из всех этих руин,
подвалов, щелей, как тараканы, начали выползать немецкие дети. Кто-то стоит, а кто-то уже и стоять от
голода не может. Стоят и смотрят на нас, как собаки. И не знаю, как это получилось, но я своей
простреленной рукой взял хлеб и сунул в карман, смотрю тихонько, а все наши ребята, не поднимая глаз
друга на друга, делают то же самое».
А потом они кормили немецких детей, отдавали все, что только можно было каким-то образом
утаить от обеда, сами еще вчерашние дети, которых совсем недавно, не дрогнув, насиловали, сжигали,
расстреливали отцы этих немецких детей на захваченной ими нашей земле.
Командир бригады, Герой Советского Союза, по национальности еврей, родителей которого, как и
всех других евреев маленького белорусского городка, каратели живыми закопали в землю, имел полное
право, как моральное, так и военное, залпами отогнать немецких «выродков» от своих танкистов. Они
объедали его солдат, понижали их боеспособность, многие из этих детей были еще и больны и могли
распространить заразу среди личного состава.
Но полковник, вместо того чтобы стрелять, приказал увеличить норму расхода продуктов. И
немецких детей по приказу еврея кормили вместе с его солдатами.
Думаешь, что это за явление такое — Русский Солдат? Откуда такое милосердие? Почему не
мстили? Кажется, это выше любых сил — узнать, что всю твою родню живьем закопали, возможно,
отцы этих же детей, видеть концлагеря с множеством тел замученных людей. И вместо того чтобы
«оторваться» на детях и женах врага, они, напротив, спасали их, кормили, лечили.
С описываемых событий прошло несколько лет, и мой папа, окончив военное училище в
пятидесятые годы, вновь проходил военную службу в Германии, но уже офицером. Как-то на улице
одного города его окликнул молодой немец. Он подбежал к моему отцу, схватил его за руку и спросил:
— Вы не узнаете меня? Да, конечно, сейчас во мне трудно узнать того голодного оборванного
мальчишку. Но я вас запомнил, как вы тогда кормили нас среди руин. Поверьте, мы никогда этого не
забудем.
Вот так мы приобретали друзей на Западе, силой оружия и всепобеждающей силой христианской
любви.
Биркин Вячеслав Васильевич (1937 — наши дни) «Голод и холод»
Жизнь в оккупированном фашистами донбасском городке становится все голоднее и страшнее.
Мама уже давно считает каждую картошину, которую бросает в суп. Крупу меряет маленьким
стаканчиком. О каше стали забывать. Продуктов в кладовке становится все меньше и меньше. Их мама
старается растянуть на более длительный период. Мне почему-то все время хочется кушать. Раньше, до
войны, мама постоянно ругала нас братьев, что мы плохо едим, а теперь смотрим голодными глазами -
что бы еще съесть после жидкого супчика, а скушать больше нечего. Полуголодными бежим на улицу
гулять с мыслью - где бы достать еду? Мама и папа о чем-то все время шепчутся. Но когда кто-то из нас
появляется в квартире, сразу умолкают. Но я все равно подслушал. Дело в том, что в городе появилось
объявление. В нем говорилось, что все коммунисты города должны прийти к немецкому коменданту и
зарегистрироваться. За неявку на регистрацию - расстрел. Хотя ходили слухи, что зарегистрированных
тоже расстреливают на Меловой горе. Отец мой был коммунистом, «партейным». Но идти к немецкому
коменданту регистрироваться не захотел. Пойди – расстреляют, не пойди – тоже расстреляют. Кому
охота, чтобы тебя расстреливали? Что же делать? Вот об этом папа и шептался с мамой.
Однажды, проснувшись утром, я нигде не мог найти отца - ни в квартире, ни на чердаке, где он
прятался обычно от посторонних глаз. На вопрос, где же папа, мама, вытирая слезы, объяснила:
- Скоро нам совсем нечего будет есть.
Папа ушел за продуктами к себе на родину, в Россию. Затем, подумав немного, предупредила
сыновей, что если кто спросит, где отец, говорите, что уже давно ушел из дому и пропал неизвестно где.
- А вечером к нам в квартиру пришли два полицая с винтовками.
- Где коммунист Василий Биркин?
Мы с братьями сразу начали реветь. А мама только разводила руками в недоумении.
- Недавно тут был. А потом вышел куда-то и пропал. Где - не знаю.
Полицаи обыскали весь дом. Залезали даже на чердак, побывали у соседей. Но отца и след
простыл. Полицаи долго ругались, а потом от злости выбили стекла в окнах коридора, разбили
прикладами винтовок дверь и ушли ни с чем.
На улицу я выхожу все реже. Там очень холодно. Ветер намел большущие сугробы снега. Но в
квартире тепло. Мама топит печь еще довоенным углем. Старшие братья в квартире не сидят. Несмотря
на мороз на улице, часто убегают из дома. Им тоже, как и мне, хочется есть. Несмотря на опасность, они
приспособились воровать продукты у немцев. Многие мальчишки теперь “пасутся” у дороги, по которой
то и дело проезжают немецкие машины-грузовики, крытые брезентом. Как только машина
останавливается у обочины дороги и водитель на время ее покидает, ребята уже заглядывают в кузов под
брезент - нет ли там чего съестного и тащат все, что можно съесть. Если немец застает такого смельчака,
то без всякой жалости бьет его носками кованных сапог и грозится сделать “пиф-паф”, т.е. просто
пристрелить.
Но братья иногда приносят буханку хлеба или банку консервов да еще мясных. Они зовут меня в
сарай и там мы устраиваем пир на весь мир. В дом не несем. Там мама заругается. Она очень не любит,
когда ее сыновья что-то воруют. Даже у немцев. А немцы становятся все злее. В последнее время в их
немецком “джеркотании” все чаще стало появляться раздражительное и даже ругательное слово:
“Москау!”, “Москау!” Хорошо, что у нас они долго не задерживаются. Пробудут несколько дней и
уезжают куда-то дальше, а на их место приезжают новые фрицы.
Вскоре братья нашли новый источник добычи пропитания.
В их бывшей школе №1 постоянно находились немцы и еду для них готовили там в полевой
кухне. Готовил немецкий повар. Правда, на повара он никак не был похож. Обычно повара толстые,
мордастые, а этот худющий, длинный, как глиста. Натянет поварской колпак поверх пилотки,
опущенной на уши, и белый халат на свою зеленую жабью шинель и постоянно что-то жует. Жует и
жует и никак не может наесться. Аж нам, пацанам, смотреть на это противно, да еще и при наших
голодных желудках. Однако еда ему не шла на пользу. Он по-прежнему оставался тощим. Виталька дал
ему прозвище “Гусенок”, объяснив нам, что гусенок тоже много ест. А потом хвостом дернет, и вся еда
вылетает на улицу. Мы посмеялись, но решили, что назвать повара “гусенком”, - много для него будет
чести. “Гусь” - такое прозвище будет ему в самый раз. У этого “Гуся” ребята всегда могли поживиться
остатками пищи из котла. За это они должны были потом вымыть котел, наносить туда воды и наколоть
дров. Жорик обычно трудился молча, а Талик вечно бурчал, что за какие-то фрицевские объедки
приходится так много работать. Я, как самый меньший, только помогал собирать нарубленные чурбачки
и сочувствовал Витальке. Несмотря на голод, он был полненький, курносое лицо круглое, пухлые щеки
всегда розовые. Недаром мальчишки дали ему прозвище “Пузя”.Так возле немецкой кухни ребята и
спасались от голода.
Но под Новый 1942 год случилась беда. Вместо уехавших, прибыли новые немцы и они оказались
еще злее тех, которые уехали. Они все время ругались: “Москау! Москау!”. И наш “Гусь” тоже стал
очень злым. Теперь он перестал разрешать нам выскребать из котла остатки пищи, а выливал их и
выбрасывал в снег. На морозе все это быстро замерзало. А нас мальчишек стал отгонять от кухни
увесистой металлической кочергой. Конечно, мы тоже обозлились. Не хочешь по-хорошему, будет по-
плохому.
Братья решили украсть у него буханку хлеба. Меня отослали, как говорится, от греха подальше, а
Виталька стал отвлекать “Гуся”. Начал корчить ему рожи и дразнить: “Москау! Москау!”.Ух, как
рассердился тут “Гусь”! Схватил кочергу и помчался за Виталькой. А в это время Жорик стащил со
стола буханку хлеба. И надо же было повару в этот момент оглянуться. Он увидел Жорика, убегающего
с хлебом в руках. “Гусь” размахнулся и запустил в него кочергой. Кочерга сбила с брата шапку и
раскроила голову. Он упал, выронил хлеб, подхватился и снова бросился бежать. Кровь растекалась по
лицу и на снегу появился кровавый след. Немец подобрал хлеб, кочергу, подфутболил ногой шапку и,
довольный, пошел к своей кухне.
Мы прибежали в сарай и стали оглядывать рану на голове Жорика. Я притащил в пригоршне
чистого снега, а Виталька начал прикладывать его к голове Жорика, чтобы остановить
кровь. Белый снег сразу становился красным. Морщась от боли, Жорик приказал мне:
- Пойди шапку принеси. И мамке ничего не говори.
Когда мы, с прибежавшим на шум Вовкой, нашли и принесли шапку, братья уже были дома и
мама, причитая, перевязывала голову Жорика и кляла немцев самыми страшными словами. Кровь все
равно проступала через повязку.
Ух, фашист проклятый! Сам глиста глистой, а сильный. Глубоко пробил голову брату и оставил
шрам на всю оставшуюся жизнь. Несколько дней братья не выходили из дому. Сидел с ними дома и я.
Так без папы мы встретили Новый 1942 год.
Рана у Жорика постепенно стала заживать. А вот кушать хотелось постоянно. И братья снова,
одевшись и поплотнее натянув шапки на головы, отправлялись на поиски съестного. Бродили
неизвестно где, занимались неизвестно чем, но, придя домой, есть не просили.
Однажды морозной зимней ночью кто-то осторожно постучал в окно. Мама вскочила с постели, а
с ней проснулся и я. Мы спали вместе. Так было теплее. Братья тоже спали на одной кровати, согревая
друг друга. Мама подошла к окну и стала всматриваться сквозь морозное стекло. Затем всплеснула
руками, ойкнула и побежала открывать дверь. Вскоре в комнату вошел отец. Был он весь заиндевевшей,
замерзший, на усах и бороде висели сосульки. За плечами большой вещмешок. Когда отец немного
отогрелся, снял пальто и валенки, начались рассказы о том, что в России тоже очень голодно. Немцы
сожгли половину их деревни, почти все ограбили, но ему все же удалось раздобыть у родственников
немного зерна, картошки и муки. Дальше я не слышал. Уснул.
А утром нас всех троих братьев разбудил вкусный запах чегото варенного. Оказывается, мама
сварила суп, который мы называли затиркой. Затирку делали из муки. Мама рассыпала муку нетолстым
слоем на чистом столе, а затем брызгала на нее водой. Мука свертывалась вокруг капелек воды и мама
рукой “затирала” небольшие катышки теста. И так брызгала на муку водой и затирала ее рукой, пока вся
мука не превращалась в круглые шарики теста, или, как мы их называли, катышки. А потом варила из
них суп.
До войны мама варила “затирку” на молоке, ну, а теперь — на воде. Но все равно она была
вкусной. Мы варенной еды не ели уже несколько дней. Мама строго-настрого наказала своим сыновьям
никому не проболтаться, что пришел отец. Даже своим друзьям. А отец отлеживался после дальней
дороги, отогревался. Из России в Донбасс он шел пешком, обходил села, где стояли немцы. Все время
опасался, что его схватят немецкие солдаты или полицаи. Полицаи были даже страшнее немцев. Если к
ним попадешься, тогда они все отберут и могут даже расстрелять. Поэтому ночевал в поле, в стогах сена
или просто в кустах или ярах под открытым небом. Сильно обморозился. Теперь отогревался возле
печки, но как только кто-то посторонний появлялся во дворе, снова сразу прятался на чердаке. Отец нам
рассказал, что немцам наши дали жару под Москвой. И наши им дали такого жару, что фашистам теперь
не видать Москвы, как своих ушей без зеркала. А еще в годовщину Октябрьской революции там был
парад советских войск, и парад принимал сам Сталин.
Вот теперь нам стало понятно, почему тощий “Гусь” так злился, когда Талик дразнил его:
“Москау! Москау!” и другие немцы тоже исходили злобой. А мы с братьями радовались. Вот тебе,
глиста немецкая, хрен собачий, а не “Москау”. Ну, как же такой радостью не поделиться с другом
Вовкой, а он - с мамой, а мама - с соседкой. И пошла гулять радость по оккупированному фашистами
городу Краматорску.
Отец пробыл дома около месяца. Больше оставаться было опасно. Дело в том, что немцы
некоторое время действительно не трогали зарегистрировавшихся коммунистов. А потом в одну ночь
всех арестовали, вывезли на окраину города к яру на Меловой горе и там расстреляли. Отцу тоже
угрожала смерть.
Решено было, что он снова пойдет в Россию к родственникам и возьмет с собой старшего сына -
Жорика. Ему уже двенадцать лет. Рана на голове зажила. Хотя и худенький, но жилистый. Дорогу
должен осилить. Да и отцу будет безопасней. На деда с ребенком не так будут обращать внимания.
Собрала мама мужа с сыном в дорогу, наплакалась вволю. Мы с Виталькой крепились. Мы же
мужчины. И побрели пешком по оккупированной территории отец с сыном из Украины в далекую
Россию. Хорошо, что морозы несколько смягчились, запахло уже весной, появилась капель. Отец на
газетной бумаге начертил маршрут, по которому они должны были идти. Свернул газету в стопку так,
как курцы обычно сворачивают для самокруток. Один листочек для самокрутки - один день пути. К
вечеру отец отрывал от стопки газетный листочек, насыпал в него из кисета щепотку самосада, делал
самокрутку и скуривал ее. Искали ночлег. Иногда пускали переночевать добрые люди, иногда ночевали в
поле под открытым небом прямо на земле или в забытом стогу сена. Чтобы не умереть от голода,
просили милостыню. Несколько раз их задерживали полицаи, обыскивали, допрашивали, сажали в
“каталажку”, но потом все же отпускали. Какой спрос с нищего старика и ребенка? Выручало еще то,
что отец через какого-то знакомого достал пропускной документ - “аусвайс”.
Вышли из дома где-то в начале марта, а пришли в село Вышне-Замарайка Орловской области в
первых числах мая месяца. А мы остались дома, в родном Краматорске, втроем. Мама - Ефросинья
Никифоровна, брат Виталий - 10-ти лет и нынешний автор этих строк, которому тогда шел шестой год.
Дети войны.
Задание — письменно ответить на вопросы:
1. Сравните два расказа о войне, в чем особенности композиции произведений?
2. Почему авторам произведений захотелось поделиться своими воспоминаниями?
3. Какие проблемы ставят авторы произведений?
Педагогика - еще материалы к урокам:
- Игровая импровизация на уроке хореографии для дошкольников
- Сценарий праздника в санатории "Масленица весела, всех на игры увела!"
- Примерная схема полного анализа урока
- Картотека игр по развитию мелкой моторики
- Проект "Таинственный космос" для детей старшей группы
- Сценарий праздника "Масленница" старшая-подготовительная группа