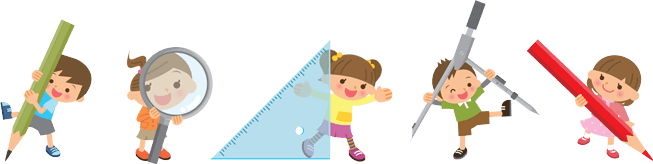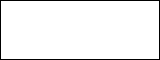Методическая разработка "По повести Б.Л. Васильева «Летят мои кони»" 11 класс
Т.Н.Стригачева
МБОУ «Тюшинская СШ»
Кардымовского района
Смоленской области
учитель русского языка и литературы
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ПО ПОВЕСТИ Б.ВАСИЛЬЕВА «ЛЕТЯТ МОИ КОНИ»
Автобиографическая повесть Б.Васильева обладает большим
воспитательным потенциалом, в ней поднимется ряд важнейших нравственных
проблем. Вместе с тем эта повесть является благодатным материалом для
подготовки к итоговой аттестации учащихся, для тренировки навыков
смыслового чтения. А яркая философская образность повести даёт возможность
для развития ассоциативного мышления и, безусловно, заинтересует учащихся.
Представленная ниже разработка рассчитана на учащихся старших классов.
Она может использоваться полностью на протяжении 2-3 уроков или частично.
Беседа с учащимися на занятии может быть построена следующим образом. (В
приложении даны отрывки из повести для работы на уроке.)
- Ребята, дома вы читали автобиографическую повесть Б.Васильева «Летят
мои кони». А что значит – автобиографическое произведение?
- Попробуйте продолжить фразу «Жизнь – это…»
- Давайте обратимся к повести Б.Васильева, которая обладает большой
философской глубиной и способна обогатить наши представления о жизни.
При помощи каких метафор он определяет жизнь? (Приложение 1)
- Лейтмотивом звучит в повести образ жизни-ярмарки. Какие ассоциации
он у вас вызывает? Какими эмоциями наполнен этот образ?
- Смоленск, в котором прошло детство, писатель называет плотом. Как вы
думаете, почему Б.Васильев остановился именно на этой метафоре? Как бы вы
определили образ Смоленска?
- Звучит в повести и сравнение жизни с горбатым мостом. Какими
эмоциями наполнены эти строки и почему?
- И ещё одна метафора для определения жизни использована писателем в
конце повести – одеяло. Какими эпитетами наделяет этот образ писатель и как
их понимать? Почему его жизнь – это именно «лоскутное» одеяло?
- Язык повести очень образен и выразителен. Давайте вспомним, что
лежит в основе следующих метафор, эпитетов, сравнений, олицетворений, а
затем проверим себя. Какие из этих выразительных средств наиболее удачны?
Жёсткое, как солдатская шинель (детство)
Золотые слитки (воспоминания)
Меняла одежды чаще, чем самая модная модница (смерть)
Пронёс, как тлеющую искорку (влюблённость в театр)
Её можно растранжирить на удовольствия, а можно и пустить в оборот
(молодость)
Всю жизнь бьётся в клетке (сердце)
Мелькают, как верстовые столбы (дни)
- Как вы думаете, с какой целью писатели обращаются к
автобиографической прозе?
- Как правило, взяться за автобиографическое произведение писателя
побуждает желание рассказать «о времени и о себе», стремление разобраться в
сложных вопросах бытия, высказать сокровенные мысли. Какие же проблемы
ставит Б.Васильев в своей книге? Обратимся к тексту для более внимательного
прочтения. Вы будете работать с отрывками из повести индивидуально (или в
парах). Ваша задача: определить проблему, которую поднимает автор и
сформулировать авторскую позицию, возможно использование цитирования.
(Приложение 2)
В результате работы учащихся заполняется примерно такая таблица:
№
отрывка
Проблема
Авторская позиция
1
Проблема
межнациональных
отношений
«люди делятся не на русских, поляков, евреев
или литовцев, а на тех, на кого можно
положиться и на кого положиться нельзя»
2
Проблема роли
истории в жизни
человека и общества
«История не позволяет человеку остаться
варваром, даже если он сделался крупнейшим
специалистом в области ультрасовременной
науки»
3
Проблема роли
детства в жизни
человека
«Оно остается в нас пожизненно, потому что
если «КТО ТЫ?» — плод взрослой твоей
ипостаси, то «КАКОЙ ТЫ?» — творение
детства твоего»
4
Проблема смысла
жизни
«жизнь требует от человека не ответов, а
желания искать их»
5
Проблема
соотношения труда
и отдыха в жизни
человека
«Я столь запальчиво пишу об этом повальном
бедствии нашем, потому что с детства был
приучен глубоко презирать… идеализацию
безделья»
6
Проблема
отношения человека
к домашним
животным
«собака, перестав быть членом трудового
коллектива, превратилась в игрушку, и судьба
ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза
хозяина»
7
Проблема
отношения к
культурному
«двойное воздействие [культуры прошлого и
настоящего] в конечном итоге и создало тот
сплав, который так и не смогла пробить
наследию
крупповская сталь»
8
Проблема
существования
массовой
литературы
«она учит уважать книгу и — выражаясь
толстовским языком — «полюблять» ее… она
чиста в истоках своих»
9
Проблема юности,
совпавшей с войной
«Мы многое потеряли, но у потерь есть одно
хорошее свойство: они оттачивают память…
«молодость — богатство старости. Ее можно
растранжирить на удовольствия, а можно и
пустить в оборот…»
10
Проблема особого
положения
писателя, его
сущности
«У него огромная, божественная власть в
мирах, сотканных им из собственной
бессонницы, и значит, он должен быть
справедлив, как высший судия. А
справедливость — это победа добра»
- Особое место занимает в книге Б.Васильева проблема воспитания,
проблема влияния на ребёнка, подростка, юношу людей, которые его
окружают. Давайте вспомним, опираясь на текст (приложение 3, работа в
группах), какие люди встретились Борису Львовичу на его жизненном пути и
какие их нравственные качества вызвали у него восхищение.
В результате составляется примерно такая таблица:
Доктор Янсен
Подвижничество, интеллигентность, самопожертвование
Отец
«Принцип рационального аскетизма», бескорыстие, твёрдость
духа, скромность
Бабушка
Оптимизм, «детская душа», фантазия, великодушие
Мать
Самоотречение и преданность
Б.Н. Полевой
Живая заинтересованность в судьбе ближнего
- Б.Васильев назвал свою книгу «Летят мои кони…» и дал подзаголовок
«Повесть о своём времени». Как понимать это название?
- У В.Высоцкого есть песня «Кони привередливые». Прочитайте её и
сравните с повестью Б.Васильева. Песня противоречит повести или дополняет
её смысл? (Приложение 4)
- Давайте проанализируем следующие цитаты из повести. Их связывает
общий мотив. Какой? Какую роль он играет в повести?
• А сейчас я еду с ярмарки. Еще размашисто рысят кони…Я еще хочу бежать
вслед за уходящим поездом, но уже не могу его догнать и рискую остаться
один на гулком пустом перроне.
• Друг жил в Гороховце под Горьким, и отец каждое лето отправлялся к нему
за четыреста с лишним километров на личном транспорте: на велосипеде.
• Основным транспортом были тогда ломовики. Лошади, лошади, лошади —
сквозь все детство мое прошли лошадиные морды и лошадиные крупы,
лошадиный храп и ржание, лошадиная преданность работе и лошадиные
страдания на обледенелых кручах… А автомашин было мало. Мы знали их
наперечет…
• В самом начале тридцатых годов штаб, в котором служил отец, начал менять
автопарк, списав в утиль старые машины. Но отец предложил не
выбрасывать это старье, а отремонтировать и на его базе создать клуб
любителей автодела, как это тогда называлось… Правда, если говорить
начистоту, то отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это
служило поводом для постоянных шуток, но отец разделял шутки в свой
адрес и смеялся раньше всех. Он выпросил совершеннейший металлолом,
который красноармейцы на руках перекатили из гаража при штабе в
каретный сарай напротив стадиона. И можно представить, сколько сил
затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы.
• И я поехал на отце. А сколько отцов не выдерживало, не выдерживает и еще
не выдержит искуса и повезет отпрыска на казенной машине в возрасте,
когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только
формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины
равнозначен праву на эту машину и порой способен погубить душу на веки
вечные…
• Наш паровоз летел вперед.
• А потом мне поручили возить зерно на элеватор. До него было не близко —
более суток волы переставляли клещатые копыта, норовя свернуть куда
угодно, лишь бы не идти прямо. Зерно насыпалось в бричку по борта, и мы с
убийственной медлительностью тащились по степи. И все замирало,
замедляло свой естественный ход…
• Ах, как спешат мои кони! Я не гоню их, но и не удерживаю, будучи твердо
убежденным, что нужно прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни.
• А вместо этого я все бегу и бегу неизвестно куда, бегу, задыхаясь и падая, и
все никак не могу добежать. Ах, как быстро летят мои кони!..
- А какой ещё мотив наполняет повесть? (Мотив добра) Какие примеры
вы можете привести?
• Нет, не танцзалом запомнилось мне детство, а Храмом. Двери этого Храма
были распахнуты во все стороны, и никто не стремился узнать имя твоего
бога и адрес твоего исповедника, а назывался он Добром. И детство, и город
были насыщены Добром, и я не знаю, что было вместилищем этого Добра —
детство или Смоленск… Помощь была нормой, ибо жизнь была неласкова.
Конечно, помощь — простейшая форма Добра, но любой подъем начинается
с первого шага.
• Важно посеять этот восторг. Найти время, чистое сердце и добрые семена.
• В упоении мы вопили на весь дом, но никто ни разу не сказал бабушке, что
она забивает голову ребенку какими-то бреднями. Наоборот, когда
кончалось наше «кино» — а кончалось оно неизменно победой Добра, — я
врывался в большую комнату и с порога начинал восторженно рассказывать,
что я только что видел, все с живейшим интересом и совершенно серьезно
расспрашивали меня о битве трех богатырей или о чудесном спасении
царевны.
• В ней [литературе] всегда торжествует добро, в ней всегда наказуем порок, в
ней прекрасны женщины и отважны мужчины, она презирает раболепство и
трусость и поет гимны любви и благородству.
• А справедливость — это победа добра. И я мечтаю об этой победе. Я мечтаю
о ней постоянно, неистово и нетерпеливо и сражаюсь за нее на всех
доступных мне фронтах. Добро должно восторжествовать в этом мире,
иначе все бессмысленно. И я верю, оно восторжествует, потому что мои
мечты всегда сбывались.
- Как же соединяются в авторской идее эти два мотива? Попробуйте
сформулировать эту мысль.
- Книга наполнена философскими размышлениями, образами и
афоризмами. Попробуем объяснить смысл любого из представленных ниже
афоризмов (работу можно дать как письменную домашнюю):
«Мудрость и учёность разнятся между собой, как нравственность и знание
статей Уголовного кодекса»
«История – богиня, а не только наука»
«Святость не знает бедности»
«Путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной
прямой»
«В праздники люди перестают думать»
«На взаимосвязи любви и долга держится мир»
«Воспитание не профессия, а призвание, талант, дар божий»
«У потерь есть одно хорошее свойство: они оттачивают память»
«В кино за вход платят рубль, а за выход – два» (В.Б.Шкловский)
«Наверное, это естественно: утверждение через отрицание»
«Пот смывает все грехи, если пролит он для людей и за людей. И это
единственное средство остаться чистым в наш загрязнённый век окружающей
среды»
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
1) Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, а что-то
потеряв; я не знаю, в барышах я или внакладе, но бричка моя не скрипит под
грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, умещается в моем сердце, и
мне легко. Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом,
возвращаясь с нее; многократно обжигаясь на молоке, я так и не научился
дуть на воду, и это переполняет меня безгрешным гусарским
самодовольством. Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать
на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать
свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие
синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы.
2) Город превращают в плот история с географией. Географически Смоленск
— в глубокой древности столица могущественного племени славян-
кривичей — расположен на Днепре, вечной границе между Русью и Литвой,
между Московским великим княжеством и Речью Посполитой, между
Востоком и Западом, Севером и Югом, между Правом и Бесправием,
наконец, потому что именно здесь пролегла пресловутая черта оседлости.
История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь
на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде
польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких
концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнобожье и
разноукладное население лепилось подле крепости, возведенной Федором
Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой формуле: ЖИТЕЛЬ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА. Здесь победители роднились с побежденными, а
пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались
в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего
врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь
искали убежища еретики всех религий, и сюда же стремились бедовые
москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И
каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать националь-ные
обычаи, семейные традиции и фамильные привычки. И Смоленск был
плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных
земляков через собственное детство.
3) С какого-то времени — старею, что ли? — жизнь стала представляться мне
горбатым мостом, переброшенным с берега родителей на берег детей.
Сначала мы поднимаемся по этому мосту, задыхаясь в суете и не видя
будущего; дойдя до середины, переводим дух, с надеждой вглядываясь в тот,
противолежащий берег, и начинаем спускаться. И есть какая-то черта, какая-
то ступень на этом спуске, ниже которой ты уже не увидишь своего детства,
потому что горбатый мост прожитой жизни перекроет твой обзор. Надо
угадать эту точку, этот зенит собственных воспоминаний, потому что
оглянуться необходимо: там спросят. На том берегу, где мы — только гости.
Порою досадные, порою терпимые, порою засидевшиеся и всегда —
незваные. Не потому, что дети отличаются невинной жестокостью, а потому,
что старость только тогда имеет право на уважение, когда молодость
нуждается в ее опыте…
4) Прожитая жизнь — одеяло, которым тебя когда-нибудь закроют с головой.
Оно может оказаться теплым, коротким или подмоченным, а у меня —
лоскутное. Ничто не вечно, но если хоть один лоскутик мой понадобится
людям через четверть века, я буду иметь все основания считать себя
счастливцем. Нет, мне не приснилась моя жизнь — я сшил ее себе сам. Как
умел, как мог, но — сам. И на основании этого рискну утверждать, что
признаю лишь один талант — неистребимую жажду работы. Через
соблазны, через усталость, через «не хочу» и через «не могу». И талант этот
— не от бога и не от природы, а только от родителей. И я встаю на колени и
низко кланяюсь им, как мама когда-то кланялась праху доктора Янсена.
Приложение 2
1.
А я громко читаю, еще не ведая, что плыву на плоту и что люди делятся не
на русских, поляков, евреев или литовцев, а на тех, на кого можно положиться
и на кого положиться нельзя. Это проверенное деление: плот только-только
оправился от урагана, имя которому «гражданская война», и его пассажиры
очень хорошо знают, что значит всегда быть настоящим мужчиной, ну а
женщиной — тем более…
Мы снимали домик на Покровской горе; в нем я родился, а почтовый адрес
его тогда писался так: «Покровская гора, дом Павловых». Напротив, через
овраг, почти осеняя домик ветвями, рос огромный дуб. Сегодня такое дерево
непременно обнесли бы оградой и снабдили табличкой: «ОХРАНЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВОМ», но дуб не дожил до наших дней: в войну его спилили
немцы. Не знаю, уцелел ли пень, — я не хочу видеть останков прекрасного,
потому что помню это прекрасное живым. Это с него упал Метек Ковальский и
сломал руку; это с него меня снимал дядя Сергей Иванович; это в его ветвях
запуталась Альдона, и это ее спасал Моня Мойшес, и всем тогда было очень
смешно. Альдона каким-то образом повисла вниз головой, выставив для
обозрения розовые панталончики, и так орала, что сам дуб от хохота вздрагивал
до самой макушки. Могучий дуб, под сенью которого мирно уживались
русские и поляки, евреи и цыгане, татары и венгры: не по этой ли причине и
спилили тебя проклятые наци?
— Боря, когда пойдешь гулять, занеси дяде Янеку соль, скажи тете Фатиме, что
я нашла для нее выкройку, и попроси у Матвеевны стакан пшена в долг…
Голос мамы до сей поры звучит в моей душе; стремясь с самого нежного
возраста заронить во мне искру ответственности, мама попутно, походя, без
громких слов прививала мне великое чувство повседневного бытового
интернационализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, и
тетя Фатима наравне с ними одаривала меня сушеными грушами; венгр дядя
Антал разрешал мне торчать за его спиной в кузнице, где легко ворочали
молотами цыгане Коля и Саша; Матвеевна поила меня козьим молоком, в
Альдону я сразу влюбился и множество раз дрался из-за нее с Реном Педаясом.
А еще были старая бабушка Хана и строгая мадам Урлауб, немец дядя Карл и
слепой цыган Самойло, доктор Янсен и ломовой извозчик Тойво Лахонен и…
Господи, кого только не осеняли твои ветви, старый славянский дуб?!
2.
…Много лет спустя на встрече с молодыми учеными в столь же молодом —
даже кладбища своего не было, о чем мне с гордостью поведали организаторы
встречи, — городе меня спросили, а зачем-де нужна история в век научно-
технической революции, то есть в век качественного скачка человечества?
Чему может научить современного специалиста отвага давно отшумевших битв
и дальновидность давно истлевших правителей? Да и наука ли вообще эта
самая История, коли она с легкостью выдает сегодня за черное то, что еще
вчера считала белым? Вопросы задавались с технической точностью и
продуманностью, аудитория затаенно ждала, как я выкручусь, а я с горечью
думал, каким же провидцем оказался бестелесный Козьма Прутков, сказав, что
«специалист подобен флюсу». И дело не в том, как я тогда ответил, — дело в
том, что я тогда увидел: город без кладбища и людей без прошлого. И понял,
что мудрость и ученость разнятся между собой, как нравственность и знание
статей Уголовного кодекса.
История не позволяет человеку остаться варваром, даже если он сделался
крупнейшим специалистом в области ультрасовременной науки. У нее для
этого, по крайней мере, два спасительных аргумента: во-первых, все уже было,
а во-вторых, знания не делают человека умнее, несмотря на всю их
ослепительную новизну. Некий усредненный современник наш знает сегодня
несравненно больше, чем знали образованнейшие люди сто лет назад, но
означает ли это, что усредненный современник наш стал умнее Герцена лишь
оттого, что его мозг хранит бездну необязательной информации? Так история
— я уж не говорю о ее нравственном воздействии — спасает нас от спесивой
самоуверенности полузнайства…
…Я прожил без малого шесть десятков, я еду с ярмарки и все никак не
могу понять, как можно не восторгаться, не любить, а то и просто не знать
истории родной страны. Откуда это массовое поветрие? От вульгарного
ультраклассового представления, что монархическая Россия не стоит нашей
благодарной памяти? От спесивого полуграмотного убеждения, что история
ничему не учит? От низкого уровня преподавания истории в школах?
3.
…Человек живет для себя только в детстве. Только в детстве он счастлив
своим счастьем и сыт, набив собственный животик. Только в детстве он
беспредельно искренен и беспредельно свободен. Только в детстве все
гениальны и все красивы, все естественны, как природа, и, как природа,
лишены тревог. Все — только в детстве, и поэтому мы так тянемся к нему,
постарев, даже если оно было жестким, как солдатская шинель.
— Нет уже тех деревьев, под которыми ухаживал мой отец, — с
тоскливой горечью поведал мне как-то один старый человек.
Нет уже тех деревьев, ибо «ВСЕ ПРОХОДИТ», как было написано на
перстне царя Соломона. Все — кроме детства. Оно остается в нас пожизненно,
потому что если «КТО ТЫ?» — плод взрослой твоей ипостаси, то «КАКОЙ
ТЫ?» — творение детства твоего. Ибо корни твои в той земле, по которой ты
ползал.
Я везу с ярмарки сокровище, которое не снилось ни королям, ни пиратам.
И бережно перебираю золотые слитки воспоминаний о тех, кто одарил меня
детством и согрел меня собственным сердцем…
4.
Цель зверя — прожить отпущенный природой срок. Сумма заложенной в
нем энергии соотносима с этим сроком, и живое существо тратит не столько,
сколько хочется, а столько, сколько надо, будто в нем предусмотрено некое
дозирующее устройство: зверю неведомо желание, он существует по закону
необходимости. Не потому ли звери и не подозревают, что жизнь конечна?
Жизнь зверя — это время от рождения до смерти: звери живут во времени
абсолютном, не ведая, что есть и время относительное. В этом относительном
времени может существовать только человек, и поэтому жизнь его никогда не
укладывается в даты на могильной плите. Она больше, она вмещает в себя
ведомые только ему секунды, которые тянулись как часы, и сутки, пролетевшие
словно мгновения. И чем выше духовная структура человека, тем больше у
него возможностей жить не только в абсолютном, но и в относительном
времени, и для меня глобальной сверхзадачей искусства и является его
способность продлевать человеческую жизнь, насыщать ее смыслом, учить
людей активно существовать и во времени относительном, то есть сомневаться,
чувствовать и страдать.
Это — о духовности, но и в обычной, физической жизни человеку
отпущено «горючего» заведомо больше, чем нужно для того, чтобы прожить по
законам природы. Зачем? С какой целью? Ведь в природе все разумно, все
выверено, испытано миллионолетиями, и даже аппендикс, как выяснилось, для
чего-то все-таки нужен. А огромный, многократно превышающий потребности
запас энергии для чего дан человеку?
Я задал этот вопрос в 5-м или 6-м классе, когда добрел до элементарной
физики, и решил, что она объясняет все. И она действительно все мне тогда
объяснила, кроме человека. А его объяснить не смогла: именно здесь кончалась
прямолинейная логика знания и начиналась пугающе многовариантная логика
понимания. Я тогда, разумеется, этого не представлял, однако энергетический
баланс не сходился, и я спросил отца, зачем-де человеку столько отпущено.
— Для работы.
— Понятно, — сказал я, ничего не понял, но не стал расспрашивать.
Это свойство — соглашаться с собеседником не тогда, когда все понял, а когда
ничего не понял, — видимо, заложено во мне от природы. Житейски оно мне
всегда мешало, ибо я не вылезал из троек, сочиняя свои теории, гипотезы, а
зачастую и законы. Но одна благодатная сторона в этой странности все же
была: я запоминал, не понимая, и сам докапывался до ответов. Сейчас уже не
столь важно, что чаще всего ответ был неверным: жизнь требует от человека не
ответов, а желания искать их.
5.
Так вот, о вечерах. Осенних или зимних, с бесконечными сумерками и
желтым кругом керосиновой лампы. Отец сапожничает, столярничает или
слесарничает, восстанавливая и латая; мать и тетка тоже латают, штопают или
перешивают; бабушка, как правило, тихо поскрипывает ручной мельницей,
размалывая льняной или конопляный жмых, который добавляют в кулеш,
оладьи или лепешки, потому что хлеба не хватает; сестры — Галя и Оля —
попеременно читают вслух, а я играю тут же, стараясь не шуметь. Это обычный
вечерний отдых, и никто из нас и не подозревает, что можно развалиться в
кресле, вытянув ноги, и, ничем не утруждая ни единую клеточку собственного
мозга, часами глядеть в полированный ящик на чужую жизнь, будто в
замочную скважину. Для всех нас искусство — не только в процессе
производства, но и в процессе потребления — серьезный, исстари особо
уважаемый труд, и мы еще не представляем, что литературу можно
воспринимать глазея, зевая, закусывая, выпивая, болтая с соседкой. Мы еще с
благоговением воспринимаем СЛОВО, для нас еще не существует понятия
«отдых» в смысле абсолютного безделья, и человек, который не трудится,
заведомо воспринимается с отрицательным знаком, если он здоров и
психически полноценен.
В «Толковом словаре» Даля нет существительного «отдых», есть лишь
глагол «отдыхать». И это понятно: для народа, тяжким трудом взыскующего
хлеб свой, отдых был чем-то промежуто-чным, сугубо второстепенным и
несущественным. Отдых для русского человека — равно крестьянина или
интеллигента — всегда выражался в смене деятельности в полном соответствии
с научным его пониманием.
Когда же он превратился в самоцель? В пустое времяпрепровождение,
ничегонеделание, в полудрему под солнцем? Мы и не заметили, как отдых стал
занимать неправомерно много места в наших разговорах, планах и, главное,
интересах. В нашем сознании «труд» и «отдых» как бы поменялись местами:
мы работаем для того, чтобы отдыхать, а не отдыхаем, чтобы работать. И я не
удивлюсь, коль в новом «Толковом словаре» «труд» перестанет быть
существительным, а вместо него останется глагол «трудиться». «Трудиться» —
заниматься каким-либо трудом с целью заработать денег на «отдых» (см.)».
Я столь запальчиво пишу об этом повальном бедствии нашем, потому что с
детства был приучен глубоко презирать две язвы человеческого общества:
идеализацию безделья и натужную, потную, лакейскую жажду
приобретательства. Я понимаю, что неприлично ссылаться на собственную
семью, но ведь я еду с ярмарки, а потому хочу низко поклониться тем, кто
посеял во мне нетерпимость.
6.
…Через десять лет — в октябре сорок первого — судьба вновь свела меня
с лошадьми. Я выбрался из последнего своего окружения и попал в
кавалерийскую полковую школу. Мне досталась аккуратная гнедая Азиатка,
чуткая в поводу и легкая в прыжках. Каждое утро она ласково тыкалась
бархатными губами в ладонь, а получив кусок хлеба с солью, благодарно
толкала мордой в плечо и вздыхала. Я учился на ней скакать, вольтижировать,
брать препятствия, рубить лозу и стрелять с седла, она всегда была послушна, и
я очень к ней привязался. И как-то раз, в конце октября, что ли, мы занимались
в открытом манеже.
— Завязать повод всем, кроме головного! Подтянуть стремена! Руки назад!
Учебной рысью… ма-арш!..
Мы тряслись по кругу, вырабатывая нелегкое кавалерийское уменье
управлять лошадью с помощью одних шенкелей, когда послышался гул
моторов и дежурный завопил: «Воздух!..»
Мы еще только разводили лошадей по станкам, когда «юнкерсы» пошли на
бомбежку. Вой и грохот накатывались все ближе, а когда я, держа под уздцы
Азиатку, бегом миновал ворота конюшни, раздался удар, на меня посыпалась
труха, что-то с силой толкнуло в спину, а моя смирная лошадка вдруг
понеслась по проходу, волоча меня на поводу. У денника я вскочил, как-то
сдержал лошадь, а когда привязал и оглянулся, то увидел, что осколки
выворотили у моей Азиатки добрых три ребра…
Когда закончился налет, мы вшестером, поддерживая с двух сторон,
вывели лошадь и уложили на старую попону. Командир эскадрона — злой
казачий капитан, послав немцев замысловато и многоэтажно, протянул наган, а
я замахал руками: «Нет!..»
— Живодер ты, а не казак! — заорал капитан. — Немедля пристрели
кобылу! Милосердие другу окажи, мать твою…
В те времена — как это странно писать, а ведь это так и есть! — так вот, в
те давно прошедшие времена любая животина была необходима человеку как
помощник в нелегкой борьбе за существование. Помощниками были лошади и
коровы, овцы и козы, собаки и даже кошки, ибо в домах копошилось
множество мышей, перед которыми женщины всего мира испытывают
мистический ужас. Содержание животного для развлечения расценивалось
резко неодобрительно, и по завышенным меркам тогдашней нравственности
это было справедливо: в стране не хватало еды, и дети зачастую голодали
страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился
рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая
делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не
просто добреньким, но требовательным, как к себе самому. И не было того
массового умилительного восторга перед, скажем, собакой, положение которой
резко ухудшилось, несмотря на все внешние признаки обратного. Ухудшилось
потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась
в игрушку, и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.
7.
Я родился на перекрестке двух эпох, и в этом мне повезло. Еще
судорожно и тихо отходила в вечность Русь вчерашняя, а у ее одра неумело, а
потому и чересчур громко уже хозяйничала Россия дня завтрашнего. Старые
корни рубились со звонким восторгом, новое прорастало медленно. Россия уже
отбыла от станции Вчера, еще не достигла станции Завтра и, судорожно
громыхая разболтанными вагонами, испуганно вздрагивая на стыке дней своих,
мчалась из пронизанной вспышками выстрелов ночи гражданской войны в
алый рассвет завтрашнего дня. Наш паровоз летел вперед.
И еще ничего не успели разложить по полочкам, рассортировать и
классифицировать. Все было в куче, как в зале ожидания: наивный
максимализм и весомые червонцы нэпа; вера во Всемирную революцию и
бешеная активность Союза Воинствующих Безбожников; еще свободу путали с
волей, еще любой мог считать себя «согласным» или «несогласным», и в
анкетах того времени существовала такая графа; в школах была отменена
история, а на уроках литературы яростно спорили, стоит ли изучать
крепостника Пушкина, и прочно выбросили из программ помещика Тургенева
и путаника Достоевского.
Сейчас мне представляется, будто тогда мы наивно и хмельно играли в
жмурки, ловя нечто очень нужное с завязанными глазами. И при этом смеялись,
хлопали в ладоши, радовались — те, кто стоял вокруг. А те, кто метался в
центре, — те не смеялись. Но мы ничего не замечали: нас распирало ощущение
победного торжества.
В этой «игре» с завязанными глазами рушилась старая культура и
создавалась новая. Отрицание прошлого и всего, что хоть чем-то напоминало
об этом прошлом, было столь всеобщим, нетерпеливым и современным, что
никому и в голову не могло прийти печалиться по поводу разрушаемой
Триумфальной арки, снесенных по непонятной прихоти Молоховских ворот
или взорванного храма Христа-Спасителя. Нет, кому-то конечно же приходило,
кто-то страдал, а кто-то и действовал (ведь спасли же, в конце концов,
Триумфальную арку!), но это — в стороне от потока, от грома аплодисментов,
рева труб, грохота барабанов и торжествующего звона песен: «Нам ли стоять на
месте, в своих дерзаниях всегда мы правы…» Существует атмосфера
праздника: мы выросли в климате праздника.
…А вам не кажется, что в праздники люди перестают думать? Вспоминать
о потерях, горестях, нехватках, недостатках, болях, печалях? Ни о чем таком,
естественно, не вспоминают в праздники, да и сами-то праздники, вероятно,
возникли, когда люди вырывались из трудностей хотя бы на время. Но
представьте, о чем думают на свадьбе, а о чем — на похоронах: какой простор
для размышлений, не правда ли? И это закономерно: трагедия учит, а комедия
поучает. Нет, я совсем не против праздников, они необходимы, как радость, но
давайте все же помнить, что в праздники мы сентиментальнее, снисходительнее
и глупее, чем в будни…
Без колебаний приняв Великую Октябрьскую революцию, мой отец был
все же сыном отвергаемой культуры. Я уж не говорю о бабушке и маме —
женщины вообще консервативнее, а ведь именно они создают тот особый дух
семьи, который мы, однажды вкусив, носим в себе до последнего часа. И так
было во всех семьях, инерционно стремившихся передать нам нравственность
вчерашнего дня, тогда как улица — в самом широком смысле — уже победно
несла нравственность дня завтрашнего. Но это не рвало нас на части, не сеяло
дисгармонии, не порождало конфликтов: это двойное воздействие в конечном
итоге и создало тот сплав, который так и не смогла пробить крупповская сталь.
8.
Учился я огорчительно и потому, что часто менял школы, и потому, что
никогда не был усидчив, и потому, что отличался памятью, обладал изрядным
запасом слов и быстро наловчился рассказывать не то, о чем меня спрашивали,
а то, что я знал. Скажем, если вопрос касался Америки, я старался соскользнуть
либо на Колумба, либо на Кортеса, либо на Пизарро. А рассказывать с
бабушкиной легкой руки я навострился, на ходу сочиняя то, чего не было, но
что могло бы быть. Это позволяло кое-как перебираться из класса в класс, а
причиной всему была моя почти пагубная страсть: я читал. Читал везде и
всегда, дома и на улице, во время уроков и вместо них. Читал все подряд, в
голове образовалась полная мешанина, но постепенно все сложилось, я
вынырнул из литературной пучины и смог оглядеться.
Годам к восьми я все знал о «Пещере Лейхтвейса» и тайнах тугов-
душителей, о сокровищах Монтесумы и бриллиантах Луи Буссенара; я скакал
за всадником без головы, отбивался от коварных ирокезов, рыл подземный ход
вместе с Эдмоном Дантесом. Моими личными друзьями были Ник Картер,
Джон Адаме и Питер Мариц, юный бур из Трансвааля. И обо всем этом я
часами рассказывал в темных подвалах приятелям-беспризорникам, упиваясь
не только самим рассказом, но и возможностью прервать его на самом
интересном месте:
— Пить охота.
И не признающая никого и ничего вольница бросалась за водой без
всякого промедления. Я на практике познал то, что много позднее вычитал у
Ницше: «Искусство есть форма властвования над людьми…»
Мы привыкли третировать литературу, так сказать, «низкого пошиба» куда
с большим усердием, чем подобное ей в кино, на телевидении или в театре.
Такова традиция, признак хорошего тона и т. п. Я все понимаю, я не стремлюсь
быть оригинальным, но я хочу отдать должное этой, «низкого пошиба». И не
только потому, что она учит уважать книгу и — выражаясь толстовским
языком — «полюблять» ее, а потому, что она чиста в истоках своих. В ней
всегда торжествует добро, в ней всегда наказуем порок, в ней прекрасны
женщины и отважны мужчины, она презирает раболепство и трусость и поет
гимны любви и благородству. Во всяком случае, такова была она, эта
литература, в дни детства моего.
9.
…Я не стал историком. Порой я с густой горечью думаю, кем мы не
стали. Мы не стали Пушкиными и Толстыми, Суриковыми и Репиными,
Мусоргскими и Чайковскими, Баженовыми и Казаковыми. Мы не стали
учеными, инженерами, рабочими, колхозниками. Мы не стали мужьями,
отцами, дедами. Мы стали ничем и всем: ЗЕМЛЕЙ.
Потому что мы стали солдатами.
Мы взрывали, вместо того чтобы строить; ломали, вместо того чтобы
чинить; калечили, вместо того чтобы помогать, и убивали, вместо того чтобы в
счастье и нежности зачинать новые жизни. Говорю «МЫ» не потому, что хочу
урвать кроху вашей воинской славы, знакомые и незнакомые ровесники мои.
Вы спасали меня, когда я метался в Смоленском и Ярцевском окружениях
летом сорок первого, воевали за меня, когда я скитался по полковым школам,
маршевым ротам и формировкам, дали мне возможность учиться в
бронетанковой академии, когда еще не был освобожден Смоленск. Война
переехала и через меня и если не запахала, не искалечила, не задушила, тяжесть
ее все равно невозможно сбросить с плеч. Она — во мне, часть моего существа,
обугленный листок биографии. И еще — особый долг за то, что целым и
невредимым оставили именно меня…
…Если условиться под молодостью понимать возраст, а под юностью —
период жизни, то наше поколение было лишено юности. Оставаясь молодыми
— и даже очень молодыми! — мы перешагнули через юность не потому, что
взяли в руки оружие, а потому, что взяли на себя ответственность за чужие
жизни. Нет, мы не стали молодыми стариками — мы стали молодыми
взрослыми. Ранняя ответственность совершенно по-особому оттеняет
последующую жизнь — я дружу со многими солдатами, сержантами и
офицерами той поры, — и все эти рано поседевшие мужчины сохранили в себе
огромный запас веселого, шумного, подчас озорного детства, точно
компенсируя этим украденную у них юность. Она стучалась в наши жизни, и не
наша вина, что мы не могли распахнуть ей навстречу наши сердца. Мы многое
потеряли, но у потерь есть одно хорошее свойство: они оттачивают память…
На примере своего поколения я берусь утверждать, что молодость —
богатство старости. Ее можно растранжирить на удовольствия, а можно и
пустить в оборот…
10.
Кажется, в июне 1968 года я начал писать повесть о войне. Я писал
неторопливо, иногда несколько строчек в день, часто отвлекаясь… У меня не
было ни договоров, ни обязательств, а было тревожное чувство обязанности. До
сей поры я не испытывал подобного чувства, хотя четверть века зарабатывал на
жизнь пером. Но одно — «зарабатывать на жизнь», а другое — «быть
обязанным».
Я прекратил «занятия литературным трудом», а начал писать, начал
работать, осознав не только свои возможности, но и меру своей
ответственности, поняв, что путь к вершинам писательского мастерства
вымощен страницами ненаписанных романов, ибо способность подвергать
сомнению собственную работу на любом этапе и есть основной признак
художника…
Писателя отличает одно странное свойство: способность отчетливо
помнить то, что с ним никогда не случалось. Это не память разума, а память
всех чувств, свойственных человеку, и когда разворошишь ее — видишь,
слышишь, обоняешь и осязаешь, как наяву. И коли случается такое —
разговариваешь с героями как с реальными людьми, болеешь их болями и
смеешься их шуткам. И если ты искренне болеешь и от души смеешься —
читатель тоже будет болеть и смеяться. Он заплачет там, где плакал ты,
вознегодует твоим гневом и засияет твоей радостью. Если ты был искренен.
Только так. Искренность писателя есть его единственный пропуск в
читательскую душу. Разовый, разумеется. И всякий раз его приходится
выписывать заново каждой новой строчкой.
А еще мне представляется, что писатель — Творец. Он создает мир,
который не существовал ранее, и населяет его людьми, рожденными не
женщиной, а им самим. Он управляет событиями в этом созданном им мире, он
вяжет из событий истории, он заставляет солнце светить, когда он этого хочет,
и присылает дожди и ненастья по собственной воле. У него огромная,
божественная власть в мирах, сотканных им из собственной бессонницы, и
значит, он должен быть справедлив, как высший судия. А справедливость —
это победа добра.
Приложение 3
Доктор Янсен
Я уже смутно помню этого сутулого худощавого человека, всю
жизнь представлявшегося мне стариком. Опираясь о большой зонт, он
неутомимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку, куда входила и
неряшливо застроенная Покровская гора. Это был район бедноты, сюда не
ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было. А были
неутомимые ноги, великое терпение и долг. Неоплатный долг интеллигента
перед своим народом. И доктор бродил по доброй четверти губернского города
Смоленска без выходных и без праздников, потому что болезни тоже не знали
ни праздников, ни выходных, а доктор Янсен сражался за людские жизни.
Зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днем и ночью.
Доктор Янсен смотрел на часы, только когда считал пульс, торопился
только к больному и никогда не спешил от него, не отказываясь от морковного
чая или чашки цикория, неторопливо и обстоятельно объяснял, как следует
ухаживать за больным, и при этом никогда не опаздывал. У входа в дом он
долго отряхивал с себя пыль, снег или капли дождя — смотря по сезону, — а
войдя, направлялся к печке. Старательно грея гибкие длинные ласковые
пальцы, тихо расспрашивал, как началась болезнь, на что жалуется больной и
какие меры принимали домашние. И шел к больному, только хорошо прогрев
руки. Его прикосновения всегда были приятны, и я до сих пор помню их всей
своей кожей.
Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, чем
можно себе вообразить в наше время. Уже прожив жизнь, я смею утверждать,
что подобные авторитеты возникают стихийно, сами собой кристаллизуясь в
насыщенном растворе людской благодарности. Они достаются людям, которые
обладают редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться не о
себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду, как бы горька
она ни была. Такие люди перестают быть только специалистами: людская
благодарная молва приписывает им мудрость, граничащую со святостью. И
доктор Янсен не избежал этого: у него спрашивали, выдавать ли дочь замуж,
покупать ли дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с женой…
Господи, о чем его только не спрашивали! Я не знаю, какой совет давал доктор
в каждом отдельном случае, но всех известных ему детей кормили по утрам
одинаково: кашами, молоком и черным хлебом. Правда, молоко было иным.
Равно как хлеб, вода и детство.
Святость требует мученичества — это не теологический постулат, а
логика жизни: человек, при жизни возведенный в ранг святого, уже не волен в
своей смерти, если, конечно, этот ореол святости не создан искусственным
освещением. Доктор Янсен был святым города Смоленска, а потому и
обреченным на особую, мученическую смерть. Нет, не он искал героическую
гибель, а героическая гибель искала его. Тихого, аккуратного, очень скромного
и немолодого латыша с самой человечной и мирной из всех профессий.
Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая детей. Он
знал, что у него мало шансов выбраться оттуда, но не терял времени на
подсчет. Внизу были дети, и этим было подсчитано все.
Отец
Я вырос в семье, где господствовал рациональный аскетизм: посуда —
это то, из чего едят и пьют, мебель — на чем сидят или спят, одежда — для
тепла, а дом — чтобы в нем жить, и ни для чего более…
Принцип рационального аскетизма предполагает наличие необходимого
и отсутствие того, без чего спокойно можно обойтись. Правда, одно
«излишество» у нас все же было: книги…
Совсем недавно — шестидесятые годы. В полном разгаре яростная
борьба за престижность. Уже полушубки покупаются не для того, чтобы было
тепло, а для того, чтобы было «как у людей». Уже на владельца мотоцикла
смотрят с ироническим соболезнованием, уже с первых петухов занимают
очередь за золотишком; уже пудами скупают книги; уже… Представьте же, а
представив, вообразите, как навстречу этому потоку в кителе без погон,
полотняной фуражке и сапогах невозмутимо едет на велосипеде участник
четырех войн. Неторопливо крутит педали и едет. Навстречу. Не шоссейному
движению, а мещанской суете. Вопреки — так, пожалуй, будет точнее.
…Я перестаю писать, потому что слезы мешают видеть. Не умиления
слезы, не печали — гордости за дух человеческий. С какой спокойной
мудростью отец не замечал холуйского стремления «достать», «добыть»,
«купить», «продать», а если суммировать — «чтобы как у людей». Чтоб жена в
кольцах и дочь в дубленке, чтоб «сам» в машине, а дом — в книгах, которые
никто не раскрывает. И какой же надо обладать душой, чтобы выдержать
чудовищное давление пресса, имя которому — «как все»!..
Вероятно, у него были враги — нельзя честно прожить жизнь, не нажив
врагов. Отец никогда не говорил о них: он говорил только о друзьях, и зло не
имело у него права голоса. Он жил с ощущением, что кругом только очень
хорошие люди, и всегда вел себя так, чтобы занимать как можно меньше места.
Он никогда не входил первым, никогда никого не отталкивал и никогда не
садился в городском транспорте. И нянечка в госпитале рассказывала, что отец
последние часы не спал, а ходил по коридору: он терпел рвущие живое тело
боли, но мог застонать во сне и, чтобы этого не случилось, чтобы не
обеспокоить соседей по палате, бегал по госпитальным коридорам ночи
напролет.
Бабушка
…Я сижу в большой комнате и, высунув от старания язык, раскрашиваю
командирскими карандашами иллюстрации в пухлом комплекте «Нивы».
Бабушка сидит рядом, курит длиннейшую махорочную самокрутку и
раскладывает большой королевский пасьянс. Входит мама с плачем и пустой
корзинкой.
— Беспризорники вырвали у меня весь наш хлеб!
Бабушка невозмутимо выпускает огромный клуб махорочного дыма (в ту
пору еще не ведали, что курить вредно).
— Элечка, все трын-трава, испанский мох. Интересно, куда же мне девать
девятку треф?
— Твое легкомыслие, мама, переходит все границы. Мы не увидим хлеба
до завтрашнего дня!
— Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня, а сколько дней его не видели
эти немытые гавроши? Перестань лить слезы, Эля, и скажи, куда же мне девать
эту несчастную девятку треф?..
Это — бабушка.
Если выдвинуть на середину комнаты самую большую кровать, а на нее
положить кверху ножками обеденный стол, то получится корабль. А если
попросить бабушку стать королевой, то она через минуту войдет в комнату
царственной походкой и с короной на голове.
— Кто ты, о чужеземец?
— Я родом из Генуи, ваше величество, и зовут меня Христофор
Колумб…
И тут появляется незапланированная мама.
— Боже мой, что происходит?
— Я отправляю в великое плавание Христофора Колумба, Эля, —
торжественно говорит Изабелла Испанская. — Только на таких каравеллах и
можно открыть еще не открытые Америки.
Это — бабушка.
…— Эля, в Преображенской церкви дают керосин. Где наш бидон?
Исчезли керосин и сахар, крупы и постное масло, спички и соль. А хлеб
стал выдаваться по карточкам. Прекрасный черный хлеб, от запаха которого у
меня и сейчас перехватывает горло, тогда распределялся пайками (ударение на
первом слоге). Пайка хлеба — полфунта. Двести граммов.
Бабушка берет бидон и идет стоять в длиннющей очереди. В очереди еще
полно «бывших» (ныне они официально именуются «лишенцами», поскольку
лишены избирательного права), и бабушка отводит душу в воспоминаниях и
французском языке.
О, эти очереди! Возникшие при царе как очереди за хлебом, вы упорно не
желаете покидать многострадальную родину нашу уже как очереди за тем, «что
дают». Начавшись в рабочих кварталах Петрограда, вы меняли свой
социальный состав, пока окончательно не перетасовали граждан России. Какой
поэт, какой прозаик возьмется описать знаменитое: «Кто последний, что
дают?»…
Через два часа бабушка возвращается без керосина и даже без бидона.
— Эля, нам поразительно повезло. Поразительно! Я случайно встретила
мадам Костантиади. Ты помнишь мадам Костантиади? Так представь себе, она
служит в оперетте и завтра поведет Бореньку на «Фиалку Монмартра»!
— Зачем шестилетнему ребенку оперетка? Узнать «смотрите здесь,
смотрите там»?
— Пусть он узнает куда смотреть через искусство, а не через уличные
сплетни. Кроме того, с ним пойду я.
— А где бидон?
— Бидон? Какой бидон? Ах, с керосином? Я отдала его мадам
Костантиади: представляешь, она уже месяц живет без света и примуса.
Мама
Я пишу о многом и о многих, а о маме — сдержанно, и может создаться
впечатление, что мне либо не хочется, либо нечего сказать о ней. Но это не так,
я много думаю о ней и помню постоянно: она умерла в Татьянин день, на
десять лет пережив отца. Умерла не от чахотки, грозившей ей в расцвете ее лет:
она обменяла меня на смерть, всю жизнь помнила об этом и почему-то очень
боялась, что я застрелюсь. Не знаю, откуда возник этот страх, но он был, он
мучил маму, пока она еще хоть что-то сознавала. Она дала мне не только
жизнь, но и ее обостренное восприятие, оттененное думами о смерти, которые
все чаще посещают меня. Она дала мне прекрасный пример любви,
самоотречения и преданности… Она… да разве можно перечислить, что дает
мать самому любимому из своих детей?!
По рассказам знаю, что где-то в конце девятнадцатого, после очередного
ранения, на побывку прибыл отец. Он много выступал с беседами о положении
на фронтах, в том числе и в госпитале, куда мама пошла его послушать.
Раненые задавали множество вопросов, среди которых был и такой:
— Товарищ командир, а на что живет твоя молодая жена и малютка-дочь,
когда ты на фронте проливаешь свою геройскую кровь за наше общее счастье?
Обещания получает по иждивенческому талону? Долой! Предлагаю
резолюцию…
Приняли резолюцию: «Обеспечить жене красного командира Елене
Васильевой работу и трудовое питание при раненых геройских бойцах…» Но
работой обеспечивали совсем не геройские раненые бойцы, а бывшие военные
чиновники, криво усмехавшиеся при упоминании о красном командире. И маму
обеспечили инфекционным бараком, а через месяц она заболела оспой. По
счастью, она много раз делала прививки, болезнь прошла в легкой форме,
оставив на очень красивом лице мамы несколько оспинок на память о
гражданской войне. А получал ее дядя Карл, пришедший с одеялом и
приятелем.
— Легкая она была, как спичка, — любил рассказывать дядя Карл,
отпуская воду на водокачке. — Такая была легкая, что я никому ее не отдал и
нес от госпиталя до дома без пересмены.
У мамы был нелегкий характер, но и неласковая жизнь, на которую она
никогда не жаловалась. Мама рассказывала мне многое, куда больше, чем отец,
но — странное дело! — я никак не могу представить ее молодой. Легко
представляю молодого отца, с натугой — молодую бабушку, но мама для меня
всегда немолода. И может быть, поэтому мне с особой болью думается о ней…
Борис Николаевич Полевой
Я узнал Бориса Николаевича Полевого задолго до того, как был
представлен ему Марией Лазаревной. В 1954 году театр города Дзержинска,
что на Оке, первым в стране поставил спектакль по книге «Повесть о
настоящем человеке». И случилось так, что я попал на премьеру этого
спектакля.
Узкий и длинный зал был переполнен, я сидел на стуле в проходе,
упираясь ногами, чтобы не сползти вперед. Но вдруг запела труба, и я обо всем
забыл. Я не знаю, хорошо ли играли актеры, не знаю, какова была режиссура,
не знаю, удачной ли оказалась инсценировка, — я ничего не знаю, потому что
подобного спектакля я более не видел. Я видел лучше — и много лучше! — но
такого мне видеть более не привелось. Переполненный зал не пустел в
антрактах: он подпевал трубе, играющей за кулисами, отбивал ритм и дышал
таким единением со сценой, какого — повторяю — мне ощутить более не
посчастливилось. А когда окончился спектакль, на сцену вышел Полевой, и зал
поднялся, взорвавшись овацией. Не спектаклю, не актерам, нет — Настоящему
Человеку, который, смущенно улыбаясь, стоял на сцене в мешковатом костюме
без галстука…
— Откуда вы появились, тезка? Расскажите, как дошли до жизни такой…
Многие любят расспрашивать — то ли утоляя собственное любопытство,
то ли отдавая дань вежливости, — но я мало встречал людей, которые
расспрашивали бы с такой искренней заинтересованностью. И я рассказывал
Борису Николаевичу многое из того, что намеревался написать: он оказался
первым слушателем туманных, очень сумбурных, еще непонятных и самому
автору рассуждений о будущих романах «В списках не значился» и «Были и
небыли». Нет, Борис Николаевич никогда ничего не оценивал в подобных
беседах, ничего не советовал и ни от чего не предостерегал, но слушал с таким
искренним интересом, что мне хотелось писать.
— Слушайте, старина, это поразительно, что вы рассказали. Кстати,
венгры подарили мне бутылочку превосходного вина, и я думаю, что нам
следует выпить по глотку. Закройте дверь, я достану рюмки.
Живая заинтересованность и благожелательность были основой характера
Бориса Николаевича. А ведь заинтересованность в судьбе ближнего и
благожелательность к окружающим — это как раз то, чего так не хватает в
нашем мире. То действенное добро, без которого трудно жить и трудно
работать.
Конечно же редактор Борис Полевой не только хвалил — на полях
рукописей, прочитанных им, пестрели вопросительные и восклицательные
знаки, галочки и знаменитое «22!», которое я получал, кажется, чаще остальных
авторов «Юности». Борис Николаевич первым обнаружил во мне «И. Зюйд-
Вестова» и боролся с ним неустанно и сурово. И я стал строже писать, потому
что на полях были эти «22!».
Приложение 4
В.Высоцкий «Кони привередливые»
Вдоль обрыва по-над пропастью,
По самому по краю,
Я коней своих нагайкою
Стегаю погоняю.
Что-то воздуху мне мало,
Ветер пью, туман глотаю,
Чую, с гибельным восторгом
Пропадаю, пропадаю.
Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Вы тугую не слушайте плеть.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
Сгину я, меня пушинкой
Ураган сметёт с ладони,
И в санях меня галопом
Повлекут по снегу утром.
Вы на шаг неторопливый
Перейдите, мои кони,
Хоть немного, но продлите
Путь к последнему приюту.
Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
Мы успели, в гости к Богу
Не бывает опозданий,
Так что ж там ангелы поют
Такими злыми голосами.
Или это колокольчик
Весь зашёлся от рыданий,
Или я кричу коням,
Чтоб не несли так быстро сани.
Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Умоляю вас вскачь не лететь.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
Коли дожить не успел,
Так хотя бы допеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
Литература - еще материалы к урокам:
- Конспект урока "Положительные и отрицательные герои пьесы - сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»" 5 класс
- Презентация "Хвостатые, крылатые, зубатые"
- Долгосрочное планирование уроков русской литературы по обновленной системе образования
- Конспект урока "Природа в стихах коми поэтов" 5 класс
- Методическая разработка "В литературной гостиной «И всё земное я люблю...»" 8-11 класс
- Вводный урок "Целый мир в твоих руках..." 10 класс