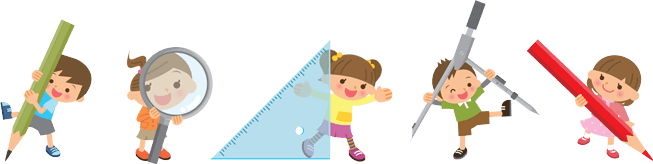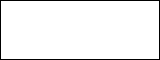Работа над звуком в создании художественного образа произведения
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
филиала МБОУ ДО «ШРДШИ» «ДШИ» с. Горки ТОЯРОВОЙ И. Г.
РАБОТА НАД ЗВУКОМ В СОЗДАНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
Март 2017 г.
Приступая к сообщению на тему «Работа над звуком в создании
художественного образа», необходимо расставить приоритеты в этой
обширной задаче, как минимум состоящей из двух самих по себе важнейших
составляющих работы пианиста: работа над звуком и работа над
художественным образом. Понятно, что звук – это средство, а образ – цель,
поэтому начать надо с определения цели, а потом уже искать средства для её
достижения. Итак, более логично будет начать с темы «художественный
образ» исполняемого произведения. Одним из самых знаменитых
методических (если можно так сухо выразиться применительно к этому
ярчайшему произведению в области слова) пособий на эти обе темы
является книга Генриха Густавовича Нейгауза «Об искусстве фортепианной
игры», где первая после предисловия глава названа: «Художественный образ
музыкального произведения», а третья: «О звуке». Трудно найти во всем
многообразии методической литературы более полного, интересного, яркого
и полезного пособия, чем эта книга. Какой бы темы не касался этот великий
педагог, талантливый пианист – главное, что стоит за этим – желание
помочь пианисту, педагогу добиться высочайшего уровня в его деятельности
– исполнительской или педагогической. И помощь эта настолько
всеобъемлюща и в отношении к глубинному познанию музыки, и
максимальному воплощению этого понимания в исполнительстве, что сам
Генрих Густавович сожалел, что не назвал книгу «О понимании музыки и
исполнении ее». Такое название предложил автор благожелательной
рецензии на книгу в «Литературной газете» № 54 за 1959 г. «Так было бы,
конечно, лучше и полнее, пишет Г. Г. Нейгауз в предисловии, - но что было
делать, когда кроме музыки и исполнения вообще я должен был писать и о
моей узкой профессии, игре на ф о р т е п и а н о, и хоть кое-что высказать о
ней. Я остановился на этом заглавии: «Об искусстве фортепианной игры»,
потому что слово «искусство» позволяло мне говорить об искусстве вообще,
а слово «фортепианная игра» — о пианизме». Однако, «с гораздо большим
правом, продолжает Нейгауз, я назвал бы свой труд предложенным
«Литературной газетой» названием: «О понимании музыки и исполнении
ее», так как, в сущности это же и есть моя главная тема. В моем сообщении
эта книга займет наиболее почетное место.
Ещё в главе «вместо предисловия» Г.Г. очень много внимания уделяет тому,
что любое разграничение видов работы над музыкой неизбежно ведет к её
ограничению. Даже такое понятие, как «техника», в применении к
искусству пианизма - некий алогизм, т. к. само слово «техника» происходит
от греческого «технэ», что означает «искусство». «Техника — «технэ» —
нечто гораздо более сложное и трудное. Обладание такими качествами, как
беглость, чистота, даже грамотное музыкальное исполнение и т. п., самопо
себе еще не обеспечивает артистического исполнения, к которомуприводит
только настоящая, углубленная, одухотворенная работа». Такая же история в
попытке описать способы работы над звуком вне связи с работой, например,
над двигательным аппаратом; или работа над художественным образом вне
связи с работой над звуком и т. д. И хотя в книге есть разделения на главы с
названиями: «О звуке», «О работе над техникой», «О свободе» и др., как уже
говорилось выше – упорно и часто Нейгауз повторяет о практически
невозможном разделении или отделении этих видов работы друг от друга. И
все же во главу же угла Г.Г. ставит работу над созданием цельного
художественного произведения: « Метод моих занятий вкратце сводится к
тому, чтобы играющий как можно раньше (после предварительного
знакомства с сочинением и овладения им хотя бы вчерне) уяснил себе то, что
мы называем «художественным образом», то есть содержание, смысл,
поэтическую сущность музыки, и досконально сумел бы разобраться
(назвать, объяснить) с музыкально-теоретических позиций в том, с чем он
имеет дело. Эта ясно осознанная цель и дает играющему возможность
стремиться к ней, достигать ее, воплотить в своем исполнении».
«Я думаю, что нетрудно угадать, к чему ведут мои размышления о столь
известных, может быть, даже набивших оскомину предметах. Я призываю к
тому, чтобы по возможности прямолинейно, не сбиваясь с пути и не слишком
задерживаясь на его этапах, стремиться к цели, а цель эта — художественное
исполнение художественной музыкальной литературы, воскрешение к жизни
звука немой нотной записи».
Вот мнение Нейгауза о формулировке: «художественный образ»: «Что же
такое «художественный образ музыкального произведения», если это не сама
музыка, живая звуковая материя, музыкальная речь с ее закономерностями и
ее составными частями, именуемыми мелодией, гармонией, полифонией и т.
д., с определенным формальным строением, эмоциональным и поэтическим
содержанием?» Однако, пишет Нейгауз: «..для удобства изложения, согласен
временно подавить в себе сомнения насчет правильности выражения «работа
над художественным образом» и принять его за чистую монету. « Сколько
раз я слышал, как ученики, не прошедшие настоящей музыкальной и
художественной школы, то есть не получившие эстетического воспитания,
музыкально малоразвитые, пытались передать сочинения великих
композиторов! М у з ы к а л ь н а я речь им была неясна, вместо речи
получалось бормотание, вместо ясной мысли —скудные ее обрывки, вместо
сильного чувства — немощные потуги, вместо глубокой логики —
«следствия без причин», вместо поэтических образов — прозаические их
отрыжки. В соответствии с этим, конечно, и так называемая техника была
недостаточна. Такова игра, в которой художественный образ искажен, не
занимает центрального положения или даже совсем отсутствует». Из данной
цитаты понятно, что работа над художественным образом немыслима без
достаточного уровня общего художественно–музыкального развития ребенка
и если этого уровня нет, сколько не бейся над созданием конкретного
художественного образа конкретного музыкального произведения, получится
то, что описано в вышеприведенном отрывке. Важнейшей составляющей
работы учителя должна быть забота о расширении музыкального и общего
художественного уровня ученика, его понимания различных эпох с
соответствующими им стилем и жанрами не только в области музыки, но и
других видах искусства; обогащении его слухового опыта, что в настоящее
время не является неразрешимой задачей. Учитель должен «заразить»
ребенка стремлением познавать и учиться. В таком случае установим
следующее: работа над художественным образом начинается с первых же
шагов обучению музыке». Педагоги детских музыкальных школ прекрасно
знают, что, обучая ребенка впервые нотной грамоте, они должны из только
что усвоенных учеником знаков найти подходящую песенку, пьеску и
научить его воспроизвести эту мелодию на инструменте. Предполагается, что
необходимые для этого первоначальные навыки для игрового аппарата в
пределах исполняемых штрихов уже приобретены. Нейгауз советует для
таких начальных пьесок все таки выбирать по возможности знакомые, чтоб
согласовать слышимое с видимым, или понятных ребенку и эмоционально
более окрашенных народных мелодий, попевок, песенок. Далее Нейгауз
настаивает на том, что работа с первых шагов ученика – это уже работа над
созданием художественного образа исполняемых им самых легких песенок.
«..Если ребенок сможет воспроизвести какую-нибудь простейшую мелодию,
необходимо добиться, чтобы это первичное «исполнение» было
выразительно, то есть чтобы характер исполнения точно соответствовал
характеру («содержанию») данной мелодии; для этого особенно
рекомендуется пользоваться народными мелодиями, в которых
эмоционально-поэтическое начало выступает гораздо ярче, чем даже в
лучших инструктивных сочинениях для детей. Как можно раньше от ребенка
нужно добиться, чтобы он сыграл грустную мелодию грустно, бодрую —
бодро, торжественную — торжественно и т. д. и т. д. и довел бы свое
художественно-музыкальное намерение до полной ясности. По
свидетельству опытных педагогов детских школ, среднеодаренные дети с
гораздо большим воодушевлением играют народные мелодии, чем
инструктивную детскую литературу, где преследуются чисто технические и
«умственные» задачи… Эти задачи, разрешение которых развивает и ум, и
пальцы ребенка, его действенную «рабочую» энергию и поэтому совершенно
необходимые и незаменимые, оставляют совершенно незатронутыми его
душу и воображение». «Разумеется, кроме народных мелодий надо
пользоваться множеством простейших мелодий Гайдна, Моцарта, Вебера,
Чайковского, Глинки и других, не говоря уже об изумительных сборниках
Шумана и Чайковского, специально посвященных детям и юношеству (на
более высокой ступени развития), но имеющих чисто художественную
ценность». «Пока ребенок играет упражнение или этюд, какую-нибудь чисто
инструктивную пьесу, лишенную художественного содержания, он может по
желанию играть медленнее или скорее, громче или тише, делать или не
делать нюансы, то есть, в его исполнении неизбежна некоторая доля
неопределенности и произвола; это будет игра «вообще», лишенная ясной
целеустремленности (игра ради игры, а не ради музыки), игра, которую
можно охарактеризовать так: «играю, что выходит» (часто это скорее то, что
не выходит). И вот для того чтобы выходило, Г.Г настоятельно рекомендует
необходимо ставить ученику ясные и определенные цели и неукоснительно
добиваться полного их достижения. Например: сыграть этюд или
упражнение с такой-то, а не иной скоростью, с такой-то, а не меньшей и не
большей силой; если цель этюда - развитие ровности звучания, то не
допускать ни одного случайногоакцента, ни одного запаздывания или
ускорения; если они случаются — тут же исправлять неточности и т. д. и т.д.
(предполагается, что разумный педагог не будет ставить ученику
неосуществимых задач). Если же речь идет все ж о работе над настоящими
художественными произведениями, пусть даже и простейшими - то
эмоциональное состояние ребенка, повышенное по сравнению с тем, какое
бывает при разучивании «полезных» упражнений и сухих этюдов, поможет
ему с помощью учителя добиваться ясного, осмысленного и
выразительного, то есть — адекватного своему содержанию, исполнения.
Именно благодаря такому эмоциональному, а не только интеллектуальному
воздействию на ребенка, считает Нейгауз, можно научить его играть, как
художник, то есть заразительно, «доходчиво», «необыкновенно» (в смысле
отличия от среднего стандарта) воздействие на него не только
интеллектуальное, но и эмоциональное. «Талант есть страсть плюс
интеллект. Главная ошибка большинства «методистов от искусства» состоит
в том, что они понимают только интеллектуальную» вернее рассудочную,
сторону художественного «действия» и стараются на нее только влиять
своими умозрительными советами и рассуждениями, забывая совершенно о
другой стороне — этот неудобный «икс» они просто сбрасывают со счетов,
не зная, что с ним делать. Потому так пуста всякая методика (по крайней
мере, такой она была до сих пор), потому-то она неизбежно вызывает
ироническую улыбку у действительно знающих, у людей активного
художественного труда».
«Вся работа, протекающая у меня в классе, - пишет Г.Г. - есть посильная
работа над музыкой и ее воплощением в фортепианной игре, другими
словами — над «художественным образом» и фортепианной техникой».
Понимание Нейгаузом слова «техника» уже было оговорено. «Никуда не
годится тот педагог, будь он хоть о семи пядей во лбу, который
удовлетворяется рассказами об «образе», о «содержании», о «настроении»,
об «идее», о «поэзии» и не добивается конкретнейшего, материального
воплощения своих высказываний и внушений в звуке, фразе, нюансировке,
совершенной фортепианной технике. Так же никуда не годится педагог,
который видит ясно одну лишь фортепианную игру, фортепианную
«технику», а о музыке, ее смысле и ее закономерностях имеет лишь смутное
представление».
В главе «Художественный образ музыкального произведения» Нейгауз дает
один конкретный пример работы с учеником, играющим сонату Бетховена
cis-moll op. 27.
«Одной странички бетховенского текста вполне достаточно, чтобы читатель
составил себе ясное представление о том, как протекает подобная работа над
любым фортепьянным сочинением. Итак, ученик играет так называемую
Лунную сонату. Особенно сложные задачи ставит обычно вторая часть,
Allegretto Dеs-dur, и понятно почему: первая часть — выражение
глубочайшей скорби и третья — отчаяния (disperato)—более ясны и
определенны, более сильны в своей потрясающей выразительности, чем
зыбкое, «скромное», утонченное и одновременно страшно простое, почти
невесомое Allegretto. «Утешительное» настроение (в духе Consolation) второй
части у недостаточно чутких учеников легко переходит в увеселительное
scherzando, в корне противоречащее смыслу произведения. Виной этому
слишком сухое staccato, а также слишком быстрый темп:
Я слышал десятки, если не сотни раз такую трактовку. В таких случаях я
обычно напоминаю ученику крылатое словцо Листа об этом Allegretto:
«Цветок между двумя безднами» и стараюсь ему доказать, что аллегория эта
неслучайна. (Ведь можно было сказать: улыбка среди потоков слез или что-
нибудь подобное), что она удивительно точно передает не только дух, но и
форму сочинения, ибо первые такты мелодии:
напоминают поневоле раскрывающуюся чашечку цветка, а последующие —
свисающие на стебле листья. Прошу помнить, что я никогда не
«иллюстрирую» музыку, то есть в данном случае я не говорю, что эта музыка
есть цветок, я говорю, что она может вызвать духовное, зрительное
впечатление цветка, символизировать его, подсказать воображению образ
цветка. Бывало, фраза Листа внушала мне размышления о роли цветка в
искусстве. Я приводил ученикам известные примеры из архитектуры,
скульптуры и живописи. Я показывал музыкальные фразы и мотивы, в
которых образ цветка в соответствии с характером музыки угадывался так
же, как в бетховенском Allegretto. Ведь цветок живет и в музыке, как в
других искусствах, ибо не только «переживание цветка», его запах, его
поэтические чарующие свойства, но самая форма его, структура, цветок, как
видение, как явление не может не найти своего воплощения в искусстве
звука, ибо в нем находит воплощение и выражение все без исключения, что
может испытать, пережить, продумать и прочувствовать человек».
«Подобные беседы бывали у меня не раз с учениками в связи с попытками
как можно глубже вникнуть в содержание произведения и с возникающим
естественно стремлением исследовать границы выразительности музыки, все
доступное ей.
Но если бы я ограничивался этими «приятными разговорами», возникшими в
связи с известным музыкальным произведением и с определенными
недостатками в игре учеников, то место мое было бы, пожалуй, на собраниях
«Свободной эстетики», но не в 29-м классе Московской консерватории, где я
преподаю. После таких или подобных разговоров начинается кропотливая
работа над сочинением и преодолением его технических «трудностей»—
вплоть до достижения желаемого результата.
Нечего и говорить, что чем ученик менее развит, тем больше бывает всяких
разговоров, разъяснений, тем тщательнее и настойчивее и пианистическая
работа. Бывали ученики, которым я говорил два-три слова об этом Allegretto.
Но был случай — и я его твердо помню — когда я с учеником потратил три
битых часа на изучение описанной выше странички бетховенского текста,
все-таки мы успели только «войти в переднюю, снять калоши, повесить
пальто и поставить зонтик на место». Думаю, что этого достаточно, чтобы
читатель имел представление о том, как протекает работа над
«художественным образом» и разрешением пианистической задачи в
лаборатории, именуемой «классом профессора Нейгауза».
Подтверждение того, что одним из наиболее эффективных средств
воздействия на эмоциональное восприятие музыки учеником (помимо
показа) является слово педагога, его словесная характеристика краски,
тембра, образа мы находим и в работах многих известных педагогов
пианистов.
Геннадий Моисеевич— российский музыковед, специалист в области
психологии музыкального исполнительства и музыкальной педагогики в
книге «Обучение игре на фортепиано» пишет: «Неожиданными и образными
эпитетами, остроумными сравнениями, эффектными метафорами была
пересыпана речь Якова Владимировича Флиера, знаменитого советского
пианиста и педагога: «Играй, пожалуйста, в этом месте абсолютно пустыми
пальцами» (об эпизоде, который должен быть исполнен leggierissimo). Или:
«Тут хотелось бы немного больше масла в мелодии» (указание ученику, у
которого суховато и блёкло звучит кантилена).
Богат и красочен был язык Льва Николаевича Оборина, русского советского
пианиста, композитора, педагога. Среди его излюбленных педагогических
приемов был следующий: учащемуся предлагалось мысленно «оркестровать»
фортепианную фактуру, представить себе специфическое звучание того или
иного оркестрового инструмента. Таким путем, считал Л. Н. Оборин,
достигается особая заостренность, конкретность тембро-динамических
ощущений молодого пианиста. «Вообрази здесь пение скрипок... А тут надо
играть ярко, блестяще — так, как это было бы сыграно тромбоном...Литавры,
литавры, не слышу литавр!» (О басах в бетховенской сонате» (выдержки
стенограмм «оборинских» уроков)».
Перекликается с этим и следующая мысль Нейгауза: «Мы, педагоги,
невольно и неминуемо постоянно пользуемся различными метафорами для
определения разных способов звукоизвлечения на фортепиано. Мы говорим
о «срастании» пальцев с клавиатурой, о «прорастании» пальца (выражение
Рахманинова), как будто клавиатура представляет упругую материю, в
которую можно произвольно «погружаться», и т. д. Все эти весьма
приблизительные определения все-таки, несомненно, полезны,
оплодотворяют воображение ученика и в связи с живым показом действуют
и на его слух, и на двигательно-осязательный аппарат, так называемое
«туше».
Говоря о создании четкого понимания художественного произведения
учащимся надо обратить внимание на изучение авторского текста. Об этом в
книге Г.Г.Нейгауза сказано не очень много. Более подробно описана работа
над текстом уже упоминаемого Я. В.Флиера. Вот описание этого процесса в
книге российского музыковеда, специалиста в области психологии
музыкального исполнительства и музыкальной педагогики Георгия
Моисеевича Цыпина «Обучение пианиста»: «Флиер был абсолютно
нетерпим к произволу и анархии в исполнительстве, пусть даже все это
«сдабривалось» самым непосредственным и интенсивным переживанием.
Студенты воспитывались им на безусловном признании приоритета
композиторской воли. «Автору следует верить больше, чем любому из нас»,
— не уставал внушать он молодежи. «Почему ты не доверяешь автору, на
каком основании?» — укорял, например, он ученика, легкомысленно
переиначивавшего исполнительский план, предписанный самим создателем
произведения. С новичками в своем классе Флиер предпринимал порой
тщательный, прямо-таки скрупулезный анализ текста: как сквозь лупу
рассматривались мельчайшие узоры звуковой ткани произведения,
осмысливались все авторские ремарки и обозначения. «Привыкайте брать
максимум от указаний и пожеланий композитора, от всех штрихов и
нюансов, зафиксированных им в нотах,— учил он.— Молодежь, к
сожалению, не всегда пристально вглядывается в текст. Часто слушаешь
молодого пианиста и видишь, что им не выявлены все элементы фактуры
пьесы, не продуманы многие рекомендации автора. Иногда, конечно, такому
пианисту просто не хватает мастерства, но нередко — это результат
недостаточно пытливого изучения произведения».
Опять же, как и Г.Г.Нейгауз, Я.В. Флиер прекрасно понимал, что
ограничиваться тем, что исполнительская задача ученику определена мало,
необходимо незамедлительно намечать пути её решения. «Я думаю, в
педагогике нельзя ограничиваться тем, чтобы объяснить ученику, что от него
требуется — так сказать сформулировать цель. Как надо сделать, каким
образом достигнуть желаемого — это преподаватель тоже должен показать.
Тем паче, если он опытный пианист...»
Переходя к описанию работы над звукомнадо сказать о упоминаемых
Нейгаузом в самом начале главы «О звуке» двух распространенных ошибках
в отношении к этой проблеме: первая состоит в недооценке звука, вторая —
в переоценке его. Более распространенной является первая. «Играющий не
задумывается достаточно над необыкновенным динамическим богатством и
звуковым разнообразием фортепьяно, не исследует его, внимание его
направлено главным образом на «технику» (в узком смысле), о которой я
говорил выше (беглость, ровность, «бравура», блеск и треск), слух его
недостаточно развит, не хватает воображения, он не умеет себя слушать (и
музыку, конечно, тоже)».
«Вот вкратце первая ошибка — недооценка звука. Другая ошибка—
переоценка звука. Она бывает у тех, кто слишком уж любуется звуком,
слишком смакует его, кто в музыке слышит прежде всего чувственную
звуковую красоту, вернее, «красивость» — и не охватывает ее целиком,
одним словом, кто за деревьями леса не видит. Таким пианистам — а в числе
их есть и педагоги, и учащиеся, и «готовые» пианисты—приходится говорить
так: «красота звука» есть понятие не чувственно-статическое, а
диалектическое: наилучший звук (следовательно, самый «красивый») тот,
который наилучшим образом выражает данное содержание».
«Если бы адепты красивого звука как самоцели были правы, то было бы
непонятно, почему мы предпочитаем певца с физически «худшим» голосом
певцу с «лучшим» голосом, если первый—артист, а второй—чурбан. Было
бы непонятно, почему хороший пианист играет на плохом рояле так хорошо,
а плохой пианист на хорошем рояле так плохо; почему хороший дирижер
может с плохим оркестром произвести неизмеримо большее впечатление,
чем плохой дирижер с хорошим оркестром (предлагаю читателю мысленно
продолжать эти примеры)».
«К этому же вопросу — о роли звука в фортепьянном произведении —
относится один случай из жизни Листа. Когда Лист впервые услышал
Гензельта, обладавшего необычайным «бархатным» звуком, он сказал: «Я
тоже мог себе позволить эти бархатные лапки!». Для Листа с его гигантским
творчески-исполнительским кругозором «бархатное туше» было только
деталью в арсенале его технических средств, тогда как для Гензельта оно
было главной целью. Все это пишется для того, чтобы еще и еще раз
подчеркнуть, что звук есть первое и важнейшее средство (наряду с ритмом)
среди всех прочих средств, которыми должен обладать пианист, но средство,
а не цель».
Однако научить хорошему звуку очень трудно. И трудность эта связана со
слуховыми и, как утверждает Нейгауз и душевными свойствами ученика. И
здесь действует обратная связь – улучшая слух мы непосредственно
действуем на звук; работая на инструменте над звуком, добиваясь неустанно
его улучшения, мы влияем на слух и совершенствуем его. Смею
предположить, что и с развитием душевной организации получается такая же
закономерность.
Коротко и ясно: овладение звуком есть первая и важнейшая задача среди
других фортепьянных технических задач, которые должен разрешать
пианист, ибо звук есть сама материя музыки; облагораживая и
совершенствуя его, мы подымаем самую музыку на большую высоту».
«В моих занятиях с учеником, пишет Генрих Густавович, - без
преувеличения, 3/4 работы—это работа над звуком».
Иерархическая связь звеньев работы, выводимая Нейгаузом такова: первое
— «художественный образ» (то есть смысл, содержание, выражение, то, «о
чем речь идет»); второе — звук во времени (Точнее было бы сказать: работа
над «время-звуком», ибо ритм и звук неотделимы друг от друга.) —
овеществление, материализация «образа» и, наконец, третье — техника в
целом, как совокупность средств, нужных для разрешения художественной
задачи, игра на рояле «как таковая», то есть владение своим мышечно-
двигательным аппаратом и механизмом инструмента. «Такова общая схема
моих занятий» - пишет Г.Г.
Очень детально, математически точно и скурпулезно Нейгаузом приведены
положения, которые как считает великий педагог, должен знать любой
пианист, «как любой грамотный человек знает таблицу умножения или
синтаксис». Речь идет о выявлении полной шкалы возможностей фортепиано
во всей палитре динамической шкалы. Дело в том, считает Г.Г., что
обозначения динамики «от «р» (рр), изредка трех (ррр) или четырех (рррр)
до f, ff реже fff, совсем редко ffff (главным образом у Чайковского)
совершенно не соответствуют той реальной звуковой (динамической) шкале,
которую может воспроизвести фортепьяно». И рекомендует не только
полезное, но и просто необходимое упражнение для исследования этой
действительной реальной динамической шкалы. «Я предлагаю ученику точно
добиться первого рождения звука (ррррр...), тишайшего звука,
непосредственно следующего после того, что еще не звук (некоторый 0,
нуль, получаемый в результате слишком медленного нажатия клавиши —
молоток поднимается, но не ударяет струну); постепенно увеличивая силу
удара—F и высоту поднятия руки — h (Символы: F (сила), m (масса), v
(скорость), h (высота) почерпнуты мною из физики и механики. Они очень
облегчают правильное понимание и применение физических возможностей
на фортепьяно, рассматриваемом как механизм.), мы доходим до верхнего
звукового предела (ffff...), после которого начинается не звук, а стук, так как
механическое (рычаговое) устройство фортепьяно не допускает чрезмерной
скорости (v), при чрезмерной массе (m) ., особенно же сочетания этих двух
«чрезмерностей. Это «исследование» можно произвести или на одном звуке
(«атоме» музыкальной материи), или на двух-трех или четырехзвучном
аккорде («молекуле»). Этот простейший опыт важен тем, что он дает точное
познание звуковых пределов фортепьяно. Опуская (надавливая) клавишу
слишком медленно и тихо, я получаю ноль—это еще не звук; если опустить
руку на клавишу слишком быстро и крепко (недозволенные «чрезмерные» v
и h), получается стук, это уже не звук». Надо сказать, что количество
вариантов у огненного Листа, и как ни странно, догматического Черни,
определялось числом 100.
Вот следующее упражнение, опять таки рекомендуемое Нейгаузом как
«одинаково «полезное» и для слуха, и для осязания клавиатуры:
Его смысл состоит в том, что каждый последующий звук берется с той силой
звучания, которая получилась в результате потухания предыдущего звука, а
не его первичного возникновения— «удара» (отвратительное слово!). Между
этими пределами лежат всевозможные градации звука. «Еще не звук» и «уже
не звук» — вот что важно исследовать и испытать тому, кто занимается
фортепьянной игрой.
Это упражнение, являющееся протестом против «ударности» фортепьяно
(ведь на фортепьяно надо уметь, прежде всего, петь, не только «ударять»
его), пришло мне в голову, когда я пытался добиться на рояле возможно
более полного подобия человеческому голосу (филировка звука) в
гениальном речитативе первой части d-moll-ной сонаты Бетховена (ор. 31, №
2):
Трудно переоценить и следующий совет Г. Г., на котором выросли
практически все пианисты: «..играть прекрасные мелодические пассажи
(например, у Шопена) в сильно замедленном темпе; я условно называю это
замедленной киносъемкой».
«Этот совет возник в результате любования красотой, мелодичностью — и
поэтому выразительностью — пассажа, желанием «рассмотреть» его вблизи,
как можно рассмотреть прекрасную картину, рассматривать ее вплотную или
даже через увеличительное стекло, для того, чтобы проникнуть хоть немного
в таинственную согласованность, гармонию и точность отдельных мазков
кисти великого художника. Увеличению объекта в пространстве точно
соответствует замедление процесса во времени».
Ещё одним излюбленным упражнением для развития осмысленного
звукоизвлечения у Нейгауза является дослушивание предельно до конца
улаливаемого ухом колебания струны извлеченного звука. «Только тот, кто
слышит ясно протяженность фортепианного звука (колебания струны) со
всеми изменениями силы, тот, во-первых, сможет оценить всю красоту, все
благородство фортепианного звука (ибо эта «протяженность», в сущности,
гораздо красивее первичного «удара» ) "; во-вторых, сможет овладеть
необходимым разнообразием звука, нужным вовсе не только для
полифонической игры, но и для ясной передачи гармонии, соотношения
между мелодией и аккомпанементом и т . д . а главное — для создания
звуковой перспективы, которая так же реальна в музыке для уха, как в
живописи для глаза. Ни для кого не тайна, что зрительная перспектива и
слуховая совершенно тождественны, разница их только в том, что они
создаются и воспринимаются двумя физически разными органами: глазом и
ухом. Как часто игра большого мастера напоминает картину с глубоким
фоном, с различными планами, фигуры на первом плане почти «выскакивают
из рамы», тогда как на последнем — едва синеют горы или облака!
Вспомните хотя бы Перуджино, Рафаэля, Клода Лоррена, Леонардо, наших
великих художников, и пусть они повлияют на вашу игру, на ваш звук».
О необычайном многообразии возможностей фортепиано в сравнении с
другими инструментами Нейгауз неустанно напоминает учащимся, как он
пишет: «По крайней мере два раза в неделю (ибо нужда заставляет!)» ..
изречение Антонаи Рубинштейна о рояле: «вы думаете — это один
инструмент? Это сто инструментов!».
«В книге Ф. Бузони «О единстве музыки», пишет Нейгауз, есть полторы
странички, посвященные роялю, под названием: «Уважайте фортепиано».
Предельно лаконично и стилистически совершенно здесь дана такая ясная и
верная характеристика рояля, что я с трудом удерживаюсь от желания
привести ее целиком. Ограничусь несколькими выдержками. Указав на
очевидные недочеты рояля — непродолжительность звука и твердое,
неумолимое деление на полутоны,— Бузони говорит о преимуществах:
исключительном динамическом диапазоне от крайнего pianissimo до
величайшего fortissimo, об огромном звуковом объеме — от самых низких
звуков до самых высоких, о ровности тембра во всех регистрах, о его
способности подражать другим инструментам (труба может только трубить,
флейта — звучать только как флейта, скрипка — только как скрипка и т. д.,
рояль же под руками мастера может изображать почти любой инструмент); в
заключение он напоминает о совершенно волшебном, одному лишь роялю
свойственном средстве выражения: о педали».
Давно и хорошо известно, по мысли Г.Г., что полифония — лучшее средство
для достижения разнообразия звука, что певучие, мелодические пьесы
необходимы, чтобы научиться «петь» на рояле, что нужно развивать «силу
пальцев», крепкий «удар», чтобы с должной ясностью и четкостью исполнять
быстрые пассажи, чтобы уметь справиться с «токкатной» фортепианной
литературой.
Продолжая мысль о практической неотделимости зон работы «над звуком»,
или «над слухом», или «над двигательным аппаратом» Нейгауз пишет о
необходимых спутниках хорошего звука: В двигательном отношении это: «
полнейшая гибкость (но отнюдь не «расслабленность»), «свободный вес», то
есть рука, свободная от плеча и спины до кончиков пальцев (вся точность-то
в них сосредоточена), прикасающихся к клавишам, уверенная
целесообразная регулировка этого веса от еле заметного летучего
прикосновения в быстрых легчайших звуках до огромного напора с
участием (в случае надобности) всего тела для достижения предельной
мощности. И все это не является большой проблемой для тех кто хорошо
слышит, уточняет Г.Г. , имеет ясный замысел, и умеет много и упорно
заниматься на рояле.
Если с последним (умением много и упорно заниматься) все более- менее
понятно, второму (ясному замыслу) была посвящена первая часть работы о
создании художественного образа произведения, то первому (умению
слышать), работе над слухом, т. е над развитием оного, в книге Нейгауза,
которая взята мной за основу, вроде бы нет специально посвященной главы,
однако эта часть работы неотделима от всех описываемых мастером навыков
и умений.
Очень подробно о работе над слухом, как важнейшем компоненте хорошего
звукоизвлечения, написано в книге уже упоминаемого Г. Цыпина «Обучение
игре на фортепиано». В книге дана классификация различных видов слуха:
звуковысотный, мелодический , полифонический, гармонический, тембро-
динамический, внутренний слух(музыкально-слуховые представления).
Детально проработать каждую тему мне представляется возможным в
отдельном сообщении, здесь же хочется упомянуть о описываемых вглаве§2:
«Причинах, отрицательно влияющих на функцию музыкального слуха у
учащихся – пианистов». Цыпин говорит об опасности, подстерегающей
учеников в процессе автоматизации игровых навыков,
являющейсянеобходимым компонентом музыкально-исполнительского
процесса. Дело в том, что в процессе этой работы, которую рекомендует и
Нейгауз, а именно - проигрывания музыкального произведения в
замедленном темпе, глубоким и полнозвучным, близким к форте туше
(«медленно и крепко», как говорят пианисты), таится опасность притупления
слухового наблюдения за исполняемым, что в свою очередь чревато
прогрессирующей пассивностью музыкального слуха. Очень подробно и
детально механизм этого печального явления описывает пианист и педагог
А.П. Щаповым, ученик М.Бариновой и Ф.Блуменфельда в книге
«Фортепьянный урок». «Английскому педагогу и исследовательнице Л.
Маккиннон принадлежит известное изречение: «...Думать — это как раз и
есть тосамое, чего средний ученик не хочет делать». Правильность этого
высказывания, а оно безусловно правильно, не пострадала бы, если слово
«думать» было бы заменено в нем на слово «слушать». Ибо слушать себя,
свое собственное исполнение — это действительно то самое, что обычно
труднее всего дается учащемуся средних музыкальных способностей. Суть в
том, что играть на рояле, отдавшись во власть пальцевых автоматизмов,
пребывая как бы в «слуховой полудреме», значительно проще, нежели в
условиях постоянного, неослабного слухового напряжения». «В
заблуждениях и просчетах учащегося, продолжает Щапов, всегда в какой-то
мере повинны его наставники. Если легче заниматься на инструменте, идя в
обход слуховой сферы, то не менее просто следовать сходным путем и в
преподавании. К сожалению, подчас так и происходит в музыкально-
педагогической практике. Короче, известные слова К. Н. Игумнова:
«тренировать ухо гораздо сложнее, труднее, чем тренировать пальцы» —
могут быть отнесены в равной мере и к тем, кто учится фортепианному
исполнительству, и многим из тех, кто учит». Щапов рекомендует
максимально интенсифицировать слуховое сознание учащихся, тренировать
прежде всего «музыкальное ухо», а потом уже пальцы. Но это как раз то, что
так ярко и образно освящает и Г.Г. Нейгауз в своей книге. Однако, А. П.
Щапов отметил еще один «неблагоприятный стимул, способствующий
распространению «антислуховых» приемов и способов пианистического
труда. Известно, что большая часть произведений, разучиваемых учащимся в
классе, рано или поздно исполняется публично, представляется на «отчетный
показ» (академический вечер, экзамен, концерт и т .д .) , за результаты
которого педагог, естественно, несет прямую ответственность. Стремление
перестраховаться от возможной сценической неудачи своего воспитанника и
толкает какую-то часть преподавателей на фактическое поощрение сугубо
моторных пальцевыхтренировок — пианистической зубрежки, призванной
повысить степень «заученности», игровой зафиксированности музыкального
материала». Бороться с этим явлением А.П. Щапов предлагает, применяя
художественно-целесообразные приемы работы — приемы, идущие прежде
всего «от слуха». И приводит в подтверждение своих мыслей высказывание
Г. Г. Нейгауза: ««...Я предлагаю во всех трудных случаях прежде всего
добиваться улучшения и развития музыкальных, слуховых способностей...—
короче говоря, церебральных свойств ученика».
Возвращаясь к книге Нейгауза, хочется привести те конкретные примеры его
«советов, которые приходится давать ученикам, когда со звуком у них
обстоит неладно»:
1. Как я уже говорил, необходимая предпосылка хорошего звука — полная
свобода и непринужденность предплечья, кисти и руки от плеча до кончиков
пальцев, которые должны быть всегда начеку, как солдаты на фронте (ведь
решающим для звука является прикосновение кончика пальца к клавише, все
остальное: рука, кисть, предплечье, плечевой пояс, спина это «тыл», который
должен быть хорошо организован.
2. Еще на самой первоначальной ступени пианистическогоразвития я
предлагаю следующие простейшие упражнения для приобретения
разнообразия звука, нужного для игры вообще и особенно для исполнения
полифонической музыки:
Потом проделать то же на четырехзвучных и пятизвучных аккордах;
достаточно проработать это в трех-четырех тональностях.
Полезны также следующие первоначальные упражнения:
Их следует проработать в нескольких тональностях в медленном, умеренном
и быстром темпе, попеременно играя один голос staccato, другой legato.
Если в полифонической музыке ученику не удастся достаточно выпукло
(пластично) воспроизвести многоголосную ткань, полезно прибегнуть к
методу «преувеличения», например, следующее трудное место из фуги Баха
es-mol (I т., №8) играть динамически так:
4. Одна из очень распространенных ошибок у учеников (даже подвинутых),
на которую часто приходится обращать внимание, это динамическое
сближение мелодии и аккомпанемента, недостаток «воздушной прослойки»
между первым и вторым планом или между разными планами, что одинаково
неприятно как для зрения в картине, так и для слуха в музыкальном
произведении. Здесь преувеличение динамического расстояния между
мелодией и аккомпанементом также может многое объяснить и уточнить
ученику.
5. Очень часто приходится повторять старую истину, что когда написано в
нотах crescendo, то нужно (в этом месте) играть piano, когда написано dimin.
— нужно играть forte. Точное понимание и воспроизведение постепенности
(перспективы) динамических оттенков—существеннейшее условие создания
правильного звукового образа. Между тем, у многих пианистов и дирижеров
длительное crescendo мгновенно переходит в откровенное forte; этим
ослабляется задуманная композитором кульминация: горная вершина
превращается в плоскогорье. Обычно для наглядности я напоминаю
ученикам разницу между арифметической и геометрической прогрессией;
так же в случаях исполнения ritenuto и accellerando.
6. О знаменитом пианисте Таузиге известно, что он любил после концерта,
придя домой, проиграть всю исполненную им программу очень тихо и
нескоро. Пример, достойный подражания! Тихо — это значит: крайне
сконцентрировано, внимательно, добросовестно, точно, тщательно,
красивым, нежным звуком; чудесная диета, не только для пальцев, но и для
слуха, мгновенное исправление неизбежно возникающих при
темпераментном концертном исполнении некоторых неточностей и
случайностей!
7. Приходится часто повторять, что так как фортепьяно не обладает
продолжительностью звука, свойственной другим инструментам, то
нюансировка не только мелодической линии, но и пассажей, должна быть,
как правило, более богата и гибка (преувеличена по сравнению с другими
инструментами), чтобы ясно передать интонацию (повышения и понижения)
исполняемой музыки.
Конечно, исключением являются такие случаи, когда требуется совершенно
ровная, лишенная нюансировки, звучность, например, мертвенная
однообразная звучность органной фуги e-moll в переложении Бузони или,
как бывает часто, длительное, большое ровное f и т. д.
8. То, что у очень одаренных учеников достигается интуитивно (конечно, в
связи с упорной работой): полная согласованность работы пальцев и руки,
вообще двигательного аппарата, с требованиями слуха, звуковым замыслом,
— в большей мере поддается осознанию и развитию также у гораздо менее
одаренных пианистов.
Два примера этой согласованности: каждый опытный пианист знает, что для
достижения «нежного», «теплого», «проникновенного» звука необходимо
нажимать клавиши очень интенсивно, «глубоко», но при этом держать
пальцы как можно ближе к клавишам и соблюдать h, близкую к minimum’y,
то есть равную высоте клавиши перед нажатием пальца.
Наоборот, для достижения большого, открытого, широко льющегося звука
(вспомните итальянского тенора вроде Карузо или Джильи) необходимо
использовать всю амплитуду размаха пальца и руки (при полнейшем гибком
legato). Это только два маленьких примера, их можно бесконечно умножить;
важно знать, практически знать, что анатомическое устройство человеческой
руки и с точки зрения пианиста идеально разумное, удобное, целесообразное,
дает богатейшие возможности для извлечения из фортепьяно самых
разнообразных звуков.
Это устройство руки находится, разумеется, в полнейшем соответствии с
устройством фортепьянного механизма. Симбиоз между рукой и клавиатурой
у хороших пианистов полнейший! Но что это не всегда бывает — мы тоже
великолепно знаем, и не только у учеников, но и у зрелых пианистов.
Иногда при большом длительном f или ff иной пианист кипятится и пыхтит
и как бы не замечает, что вместо усиления звука происходит обратное —
ослабление его, а подчас простое стучание. Это напоминает человека, у
которого слабеет голос и который старается говорить как можно громче, но
вместо этого начинает хрипеть. У пианиста это происходит именно из-за
несогласованности между звуковым требованием и двигательным процессом
— процессом, обычно в таких случаях несвободным, напряженным и
заторможенным.
Впрочем, никогда не надо забывать, что физическая (двигательная) свобода
на фортепьяно немыслима без свободы музыкальной.
9. Вопросы звука в произведениях, требующих употребления педали (то есть
почти всегда), нельзя рассматривать в отрыве от вопросов педализации, как
нельзя установить правильную педаль в отрыве от звука, от качества звука. Я
уже говорил об этом. Полезно, конечно, любую вещь иногда проигрывать без
педали (чтобы легче было проследить точность, отчетливость и ясность
каждого звука), но еще «полезнее» будет учить произведение с правильной
педалью, так как только при ее содействии можно добиться нужного
звукового результата. Но об этом подробнее в разделе о педали.
10. Одна из самых благодарных, но и трудных для пианиста задач —
создание звуковой «многоплановости». Я уже говорил об этом выше, когда
сравнивал музыкальное произведение с картиной. Всякая полифония уже
есть «многоплановость». Надо суметь сыграть выразительно и независимо
тему и спутника и другие сопровождающие голоса.
Примеры «многоплановости» мы, прежде всего, находим в любом
полифоническом произведении, начиная от инвенций и фуг Баха, Генделя и
кончая фугами Глазунова, Танеева, Регера, Шимановского, Шостаковича.
Но, конечно, примеров «многоплановости» множество в музыке самых
различных стилей.
Приведу несколько типичных случаев.
а) Этюд Шопена es-moll (шестой) ор. 10. Первый план — мелодия, второй
план — бас, длинные, длящиеся целый такт или полтакта нижние ноты,
третий план — движение шестнадцатыми в среднем голосе. При
несоблюдении этой естественной трехплановости, которая сейчас же
переходит в четырехголосие, то есть требует уже четырех планов, все
произведение, как бы «выразительно» ни пытались его играть, становится
туманным и неясным (Типичный пример «трехплановости»—органные
хоральные прелюдии Баха Es-dur и G-dur в транскрипции Бузони). Мне
много раз приходилось это объяснять в классе; очень часто шестнадцатые
среднего голоса игрались слишком громко в сравнении с басом (см. пункт
11), музыка теряла опору, становилась «безногой». Здесь очень кстати
вспомнить Антона Рубинштейна, называвшего оба пятых пальца
«кондукторами», ведущими музыку. Граница звучания (нижняя и верхняя)
для музыки то же, что рама для картины; малейшая неясность (особенно
часто встречающаяся на нижней границе, в басу) ведет к расплывчатости и
бесформенности; музыкальное произведение становится (как я иногда
говорю ученикам) или «всадником без головы», если гармония и бас
пожирают мелодию, или «безногим калекой», если бас слишком слаб, или
«пузатым уродом», если гармония пожирает и бас, и мелодию.
Как ни примитивно и общеизвестно то, что я пишу здесь, а повторять это в
классе приходится часто. Очевидно, между знанием и выполнением задачи
— порядочная дистанция (теория и практика, план и воплощение, познание и
действие).
б) Шопен, ноктюрн c-moll, реприза первой темы (agitato). Весьма нелегкое
для ясного, пластичного исполнения место, вследствие очень полного,
многозвучного гармонического сопровождения («середина»), октавных басов
и мелодии, ведомой одним пятым пальцем и долженствующей доминировать
над всем остальным. Если тут возникает опасность появления «всадника без
головы», то я рекомендую прибегать к упомянутому способу
«преувеличения»: пытаться играть мелодию очень f , сопровождение — р, а
басы mр (приблизительно).
11. Очень и очень часто приходится напоминать ученикам, что длинные ноты
(целые, половинные, ноты, {90} длящиеся по нескольку тактов) должны
быть, как правило, взяты сильнее, чем сопровождающие их ноты более
мелких длительностей (восьмые, шестнадцатые, тридцать вторые etc.),—
опять-таки из-за основного «дефекта» фортепьяно: затухания звука (на
органе это правило само собою отпадает).
Меня подчас удивляло, что даже очень талантливые ученики не всегда
обнаруживали достаточно требовательный слух в этом отношении и
недостаточно пластично передавали музыкальную ткань. Не-воспитанность
слуха сказывается часто также в перегрузке звука на басовых нотах
(«громыхание») в f. Особенно неприятно это громыхание у Шопена,
который совершенно не допускает грубых, грохочущих басов (у Листа,
наоборот, часто слышатся литавры и тарелки в басах, но это вовсе не значит,
что по роялю надо бить и стучать).
12. Очень распространенный недочет, пагубно отражающийся на качестве
звука и встречающийся у учеников с небольшими или маленькими руками
(особенно у женщин), это — преобладание (динамическое) в октавах и
аккордах первого пальца над пятым (в правой руке), что особенно
недопустимо в случаях, когда октавы являются удвоенной мелодией
(например, конец третьей баллады Шопена) и в тысяче подобных мест:
В этих случаях я рекомендую ученику тщательно учить каждый голос
отдельно, а кроме того, поиграть великолепные упражнения для двойных
нот». Здесь Нейгауз приводит упражнения Годовского в примечаниях к gis-
moll'номyтерцово¬му этюду из ор. 25 Шопена в своей обработке для левой
руки. «Главный смысл этих упражнений состоит в том, что они здесь
рассматриваются как упражнения полифонические, двухголосные, это не
только двойные ноты, но и два голоса, которые надо уметь сыграть по-
разному».
13. В тесной связи с упомянутым в предыдущем пункте недочетом стоит та,
весьма распространенная у учеников с небольшими руками небрежность, с
которой они в октавах и аккордах опускают незанятые в данном аккорде
пальцы (или, если в октаве, то иногда и все три средние пальца, второй,
третий и четвертый) на попадающие под эти пальцы клавиши. Как только
при этом «приеме» ученик начинает играть f или ff, то пальцы, в piano слегка
прикасавшиеся к клавишам, начинают просто по ним ударять — «издавать
звуки», эти милые пальчики мы в классе называем сочувствующими».
Понятно, что для исправления этого недочета нужно прежде всего заставить
ученика хорошо услышать получающуюся при этом какофонию, а затем
просто посоветовать держать незанятые в данном созвучии пальцы повыше,
смотреть, чтобы они невзначай не прикоснулись к клавишам, а кисть держать
пониже (что для маленьких рук бывает затруднительно, но тем не менее
необходимо) для того, чтобы пальцы «смотрели вверх, а не вниз».
Интересно отметить, как у настоящих виртуозов, например у Гилельса,
незанятые пальцы всегда сохраняют должное расстояние от клавишей
(никогда не прикасаются к ним). Этим и достигается та точность и чистота
звука, которая так неотразимо действует на слушателя.
Обращаю внимание: и здесь техническая проблема есть в то же время
звуковая проблема.
14. Я уже говорил о том, что пианист не может обладать красивым певучим
звуком, если слух его не улавливает всей доступной фортепьяно
протяженности звука вплоть до его последнего потухания (f >ррр...).
Но при этом не надо забывать, какой поразительной яркости, какого блеска
достигает исполнение таких пианистов, например, как Горовиц, которые
очень экономно употребляют педаль, часто пользуются приемом nonlegato и
вообще умеют «молоточковые» ударные свойства фортепьяно выставить в
самом выгодном свете (конечно, это не имеет ничего общего с «сухостью»
или «стучанием»).
Вывод ясен: развивать в своем аппарате и те и другие свойства, тем более,
что фортепьянная литература этого настойчиво требует.
Повторяю: и средний пианист, и крупный пианист, если только они умеют
работать, будут обладать своей индивидуальной звучностью, сообразной их
психическому, техническому и физическому складу, и никогда не будут
походить на вместилище «универсальных» звуковых приемов, на склад всех
возможных технических совершенств.
В завершении, хочется подытожить словами Нейгауза о методике вообще:
«Итак, у меня есть тоже методика, если методикой можно назвать нечто
остающееся по существу всегда верным самому себе и всегда меняющееся и
развивающееся согласно общим законам жизни — внутри меня и вне меня.
Методика — это дедуктивно, а также э к с п е р и м е н т а л ь н о достигнутое
познание; источник его — определенная воля, неуклонное стремление к
известной цели, определяемой характером и идейным миросозерцанием
художника.
Хрестоматийная методика, дающая преимущественнорецептуру, так
называемые твердые правила, пусть даже верные и проверенные, будет
всегда только примитивной, первоначальной, упрощенной методикой,
нуждающейся поминутно при столкновении с реальной жизнью в развитии,
додумывании, уточнении,оживлении, словом, в диалектическом
преобразовании…метафоре, совершенно понятной и для детского сада, но
полезной и аспирантам и даже готовым пианистам. Я говорю: пианист и
фортепиано — это одновременно 1) дирижер (голова, сердце, слух); 2)
оркестранты (обе руки с десятью пальцами и обе ноги для обеих педалей) и
3) инструментарий (один-единственный рояль, или, выражаясь по-
рубинштейновски, сто инструментов, то есть столько же, сколько бывает в
симфоническом оркестре. Все это крайне просто и все известно, и, честное
слово, я бы не говорил этих трюизмов, если бы... да, если бы каждый день не
убеждался, что не только многие ученики, но и многие готовые пианисты
этого не знают.
Используемая литература:
Г.Г. Нейгауз. «Об искусстве фортепьянной игры».
Г.М. Цыпин. «Обучение игре на фортепиано».
А.П. Щапов. «Урок в музыкальной школе и училище».
Литература - еще материалы к урокам:
- Тест по повести "Тарас Бульба" 7 класс
- Самостоятельная работа по рассказу Л.Н. Толстого "Кавказский пленник"
- XXI Республиканский конкурс молодых исследователей "Шаг в будущее Осетии"
- Промежуточный мониторинг по литературе в 10 классе
- Вопросы и задания по первой части романа Гончарова "Обломов"
- Исследовательская работа "Образ железной дороги в русской литературе"