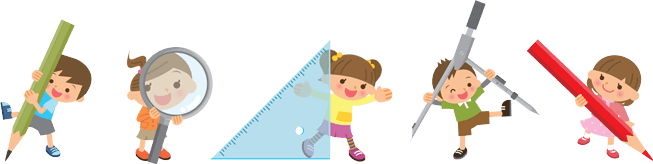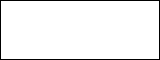Тексты ЕГЭ 2017
Тексты 2017
Казакевич
В уединенном блиндаже оставалась только Катя.
Что означал ответ Травкина на ее заключительные слова по радио? Сказал ли он я вас
понял вообще, как принято подтверждать по радио услышанное, или он вкладывал в свои
слова определенный тайный смысл? Эта мысль больше всех других волновала ее. Ей
казалось, что, окруженный смертельными опасностями, он стал мягче и доступней
простым, человеческим чувствам, что его последние слова по радио - результат этой
перемены. Она улыбалась своим мыслям. Выпросив у военфельдшера Улыбышевой
зеркальце, она смотрелась в него, стараясь придать своему лицу выражение
торжественной серьезности, как подобает - это слово она даже произносила вслух -
невесте героя.
А потом, отбросив прочь зеркальце, принималась снова твердить в ревущий эфир нежно,
весело и печально, смотря по настроению:
- Звезда. Звезда. Звезда. Звезда.
Через два дня после того разговора Звезда вдруг снова отозвалась:
- Земля. Земля. Я Звезда. Слышишь ли ты меня? Я Звезда.
- Звезда, Звезда! - громко закричала Катя.- Я Земля. Я слушаю тебя, слушаю, слушаю тебя.
Она протянула руку и настежь отворила дверь блиндажа, чтобы кого-нибудь позвать,
поделиться своей радостью. Но кругом никого не было. Она схватила карандаш и
приготовилась записывать. Однако Звезда на полуслове замолчала и уже больше не
говорила. Всю ночь Катя не смыкала глаз, но Звезда молчала.
Молчала Звезда и на следующий день и позднее. Изредка в блиндаж заходили то
Мещерский, то Бугорков, то майор Лихачев, то капитан Яркевич - новый начальник
разведки, заменивший снятого Барашкина. Но Звезда молчала.
Катя в полудремоте целый день прижимала к уху трубку рации. Ей мерещились какие-то
странные сны, видения, Травкин с очень бледным лицом в зеленом маскхалате,
Мамочкин, двоящийся, с застывшей улыбкой на лице, ее брат Леня - тоже пoчему-то в
зеленом маскхалате. Она опоминалась, дрожа от ужаса, что могла пропустить мимо ушей
вызовы Травкина, и принималась снова говорить в трубку:
- Звезда. Звезда. Звезда.
До нее издали доносились артиллерийские залпы, гул начинающегося сражения.
В эти напряженные дни майор Лихачев очень нуждался в радистах, но снять Катю с
дежурства у рации не решался. Так она сидела, почти забытая, в уединенном блиндаже.
Как-то поздно вечером в блиндаж зашел Бугорков. Он принес письмо Травкину от матери,
только что полученное с почты. Мать писала о том, что она нашла красную общую
тетрадь по физике, его любимому предмету. Она сохранит эту тетрадь. Когда он будет
поступать в вуз, тетрадь ему очень пригодится. Действительно, это образцовая тетрадь.
Собственно говоря, ее можно было бы издать как учебник,- с такой точностью и чувством
меры записано все по разделам электричества и теплоты. У него явная склонность к
научной работе, что ей очень приятно. Кстати, помнит ли он о том остроумном водяном
двигателе, который он придумал двенадцатилетним мальчиком? Она нашла эти чертежи и
много смеялась с тетей Клавой над ними.
Прочитав письмо, Бугорков склонился над рацией, заплакал и сказал:
- Скорей бы войне конец... Нет, не устал. Я не говорю, что устал. Но просто пора, чтобы
людей перестали убивать.
И с ужасом Катя вдруг подумала, что, может быть, бесполезно ее сидение здесь, у
аппарата, и ее бесконечные вызовы Звезды. Звезда закатилась и погасла. Но как она может
уйти отсюда? А что, если он заговорит? А что, если он прячется где-нибудь в глубине
лесов?
И, полная надежды и железного упорства, она ждала. Никто уже не ждал, а она ждала. И
никто не смел снять рацию с приема, пока не началось наступление.
`Территория` О. Куваев
Традиционный вечер полевиков служил вехой, отделявшей один экспедиционный сезон
от другого.
Чинков знаком предложил налить в рюмки и встал.
Уважаемые коллеги! сказал он высоким голосом. Прежде всего позвольте поблагодарить
за честь. Я впервые присутствую на празднике прославленного геологического
управления не как гость, а как свой человек. На правах новичка позвольте нарушить
традицию. Не будем говорить о минувшем сезоне. Поговорим лучше о будущем. Что
такое открытие месторождения? Это смесь случайности и логики. Но всякое истинное
месторождение открывается только тогда, когда созрела потребность в нем
В стену управления что-то глухо стукнуло, раздался как бы расширенный вздох и тотчас
задребезжали, заныли стекла в торце коридора.
Господи благослови! сказал кто-то. Первый зимний!
Что это? тихо спросила Сергушова у Гурина.
Южак. Первый за эту зиму. Придется сбегать отсюда. Каждый журналист, каждый
заезжий литератор и вообще любой, побывавший в Поселке и взявшийся за перо,
обязательно писал и будет писать о южаке. Это все равно что побывать в Техасе и не
написать слова ковбой или, будучи в Сахаре, не упомянуть верблюда. Южак был чисто
поселковым явлением, сходным со знаменитой новороссийской борой. В теплые дни за
склоном хребта скапливался воздух и затем с ураганной силой сваливался в котловину
Поселка. Во время южака всегда бывало тепло, и небо безоблачно, но этот теплый, даже
ласковый ветер сшибал человека с ног, перекатывал его до ближайшего закутка и посыпал
сверху снежной пылью, шлаком, песком, небольшими камнями. В южак лучше всего
годились ботинки на триконях и защитные очки горнолыжника. В южак не работали
магазины, была закрыты учреждения, в южак сдвигались крыши, и в крохотную дырку, в
которую не пролезет иголка, за ночь набивались кубометры снега.
Лампочки потускнели, стекла уже дребезжали непрерывно, и за стеной слышались все
учащающиеся вздохи гигантских легких, по временам где-то било металлом о металл.
Они сидели, сгрудившись за одним столом. Лампочка помигала и погасла или повредило
проводку, или электростанция меняла режим работы. На лестнице послышалось
бормотание. Это Копков проводил Люду Голливуд и вернулся. Он принес с собой свечки.
Южак ломился в двери управления, набирал силу. Пламя свечей колебалось, тени прыгали
по стенам. Разноцветно светились бутылки. Копков отодвинул от Жоры Апрятина стакан
с коньяком и пошел вдоль столов, разыскивая свою кружку.
Такое получается дело, как всегда, неожиданно забубнил Копков. Он обежал всех шалым
взглядом пророка и ясновидца, обхватил ладонями кружку, сгорбился. Лежим мы нынче в
палатке. Угля нет, солярка на исходе, погода дует. И все такое прочее. Кукули за лето
слиплись от пота, не шерсть, а стружки. Пуржит, палатка ходуном ходит, ну и разное,
всем известное. Лежу, думаю: ну как начальство подкачает с транспортом, куда я буду
девать вверенных мне людей? Пешком не выйдешь. Мороз, перевалы, обуви нет. Ищу
выход. Но я не о том. Мысли такие: зачем и за что? За что работяги мои постанывают в
мешках? Деньгами сие не измерить. Что получается? Живем, потом умираем. Все! И я в
том числе. Обидно, конечно. Но зачем, думаю, в мире от древних времен так устроено,
что мы сами смерть ближнего и свою ускоряем? Войны, эпидемии, неустройство систем.
Значит, в мире зло. Объективное зло в силах и стихиях природы, и субъективное от
несовершенства наших мозгов. Значит, общая задача людей и твоя, Копков, в частности,
это зло устранять. Общая задача для предков, тебя и твоих потомков. Во время войны
ясно бери секиру или автомат. А в мирное время? Прихожу к выводу, что в мирное время
работа есть устранение всеобщего зла. В этом есть высший смысл, не измеряемый
деньгами и должностью. Во имя этого высшего смысла стонут во сне мои работяги, и сам
я скриплю зубами, потому что по глупости подморозил палец. В этом есть высший смысл,
в этом общее и конкретное предназначение.
Копков еще раз вскинул глаза, точно с изумлением разглядывал неизвестных ему людей, и
так же неожиданно смолк,
Быков
Обычно он появлялся тут на закате солнца, когда спадала дневная жара и от реки по ее
овражистым, поросшим мелколесьем берегам начинало густо тянуть прохладой. Петрович
выходил к реке из травянистого лесного овражка со стороны недалекой приречной
деревушки и одиноко усаживался на краю каменистого, подступавшего к самой воде
обрыва/ Некоторое время спустя из-за бетонных опор моста, плавно обходя перекат,
выскакивала резвая голубая казанка.В казанке сидели двое Юра Бартош, парень из
соседней деревни, работавший в городе и наезжавший в знакомые места на рыбалку, и его
городской друг Коломиец Как с сушнячком сегодня, Петрович?
Старик не сразу оторвал от противоположного берега свои блеклые, слезящиеся глаза
Мало хвороста. Подобрали Вот вязаночку маленькую принес
Да, маловато.
Я так думаю, с вечера жечь не надо, медленно, с усилием взбираясь за ним на обрыв, тихо
заговорил старик. Под утро лучше. С вечера люди всюду, помогут А как под утро поснут,
кто поможет?
Оно можно и под утро, согласился Юра. Но в ночь бы надежнее. Может, я тоже подскочу,
пошарю чего в овраге?
В ночь бы, конечно, лучше А то как признают? Раньше вон хутор был. А теперь нет. И
этот мост новый Незнакомый.
Вот именно.
Юра торопливо полез по камням вверх к зарослям ольшаника в широком овраге.
Ты вот что, дед! резким голосом сказал он под обрывом. Брось юродствовать! Комедию
играть! Никто к тебе оттуда не придет. Понял?
Петрович на обрыве легонько вздрогнул, будто от холода, пальцы его замерли на груди, и
вся его худая, костлявая фигура под кителем съежилась, сжалась. Но взгляд его по-
прежнему был устремлен к заречному берегу, на этом, казалось, он не замечал ничего и
вроде бы даже и не слышал неласковых слов Коломийца. Коломиец тем временем с
привычной сноровкой забросил в воду еще две или три донки, укрепил в камнях короткие,
с малюсенькими звоночками удильца.
Они все тебя, дурня, за нос водят, поддакивают. А ты и веришь. Придут! Кто придет,
когда уже война вон когда кончилась! Подумай своей башкой.
Так это младший, Толик На глаза заболел. Как стемнеет, ничего не видит. Старший, тот
видел хорошо. А если со старшим что?..
Что со старшим, то же и с младшим, грубо оборвал его Коломиец. Война, она ни с кем не
считалась. Тем более в блокаду.
Ну! просто согласился старик. Аккурат блокада была. Толик с глазами неделю только
дома и пробыл, аж прибегает Алесь, говорит: обложили со всех сторон, а сил мало. Ну и
пошли. Младшему шестнадцать лет было. Остаться просил ни в какую. Как немцы уйдут,
сказали костерок разложить
От голова! удивился Коломиец и даже привстал от своих донок. Сказали разложить!..
Когда это было?!
Да на Петровку. Аккурат на Петровку, да
На Петровку! А сколько тому лет прошло, ты соображаешь?
Лет?
Старик, похоже, крайне удивился и, кажется, впервые за вечер оторвал свой
страдальческий взгляд от едва брезжившей в сутеми лесной линии берега.
- Да, лет? Ведь двадцать пять лет прошло, голова еловая!
Гримаса глубокой внутренней боли исказила старческое лицо Петровича.
Губы его совсем по-младенчески обиженно задрожали, глаза быстро-быстро
заморгали, и взгляд разом потух. Видно, только теперь до его помраченного
сознания стал медленно доходить весь страшный смысл его многолетнего
заблуждения.
- Так это... Так это как же?..
Внутренне весь напрягшись в каком-то усилии, он, наверно, хотел и не
мог выразить какую-то оправдательную для себя мысль, и от этого
непосильного напряжения взгляд его сделался неподвижным, обессмыслел и
сошел с того берега. Старик на глазах сник, помрачнел еще больше, ушел
весь в себя. Наверно, внутри у него было что-то такое, что надолго сковало
его неподвижностью и немотой.
Петрович на обрыве трудно поднялся, пошатнулся и,
сгорбившись, молча побрел куда-то прочь от этого берега.
Наверно, в темноте старик где-то разошел ногам трескучую охапку валежника -
большую охапку рядом с маленькой вязанкой Петровича.
- А где дед?
- Петрович? А кто его... Пошел, наверно. Я сказал ему...
- Как? - остолбенел на обрыве Юра. - Что ты сказал?
- Все сказал. А то водят полоумного за нос. Поддакивают...
- Что ты наделал? Ты же его убил!
- Так уж и убил! Жив будет!
Такая правда его доконает. Ведь они погибли оба в блокаду. А перед
тем он их сам вон туда на лодке отвозил. И ждет.
- Чего уж ждать?
- Что ж, лучше ничего не ждать? Здоровому и то порою невмочь, а ему?
Эх, ты!
близко и далеко зажигались рыбачьи костры. Среди них в этот вечер
не загорелся только один - на обрыве у лесного перевоза, где до утра было
необычно пустынно и глухо.
Не загорелся он и в следующую ночь.
И, наверное, не загорится уже никогда...
***
- Как с сушнячком сегодня, Петрович?
Старик не сразу оторвал от противоположного берега свои блеклые, слезящиеся глаза и
скрюченными ревматическими пальцами больших работящих рук задумчиво прошелся по
ровному ряду пуговиц, соединявших лоснившиеся борта заношенного военного кителя.
- Мало хвороста. Подобрали... Вот вязаночку маленькую принес...
Обтягивая свитер, Юра по камням взбежал на обрыв, оценивающим взглядом окинул
тощую, перехваченную старой веревкой, вязанку хвороста.
- Да, маловато.
- Я так думаю, с вечера жечь не надо, - медленно, с усилием взбираясь за ним на обрыв,
тихо заговорил старик. - Под утро лучше. С вечера люди всюду, помогут... А как под утро
поснут, кто поможет?
Тяжело переваливаясь с ноги на ногу, он отошел на три шага от обрыва и сел, расставив
колени и свесив с них растопыренные, будто старые корневища, руки. Страдальческий
взгляд его, обойдя реку, привычно остановился на том ее берегу с лодками.
- Оно можно и под утро, - согласился Юра. - Но в ночь бы надежнее. Может, я тоже
подскочу, пошарю чего в овраге?
- В ночь бы, конечно, лучше... А то как признают? Раньше вон хутор был. А теперь нет. И
этот мост новый... Незнакомый.
- Вот именно.
- Маленькое хотя бы огнище. Абы тлело - будет видать.
- Должно быть. Так я сбегаю, пока не стемнело! - крикнул Юра с обрыва, и Коломиец
внизу, цеплявший на крючки наживку, недовольно повернул голову.
- Да брось ты с этими костерками! Пока не стемнело, давай лучше забросим. А то костер -
надобность такая! Вон кухвайка есть!
- Ладно, я счас... - бросил Юра и торопливо полез по камням вверх к зарослям ольшаника
в широком овраге.
Оставшись один на обрыве, старик молчаливо притих, и его обросшее сизой щетиной
лицо обрело выражение давней привычной задумчивости. Он долго напряженно молчал,
машинально перебирая руками засаленные борта кителя с красным кантом по краю, и
слезящиеся его глаза сквозь густеющие сумерки немигающе глядели в заречье. Коломиец
внизу, размахав в руке концом удочки, сноровисто забросил ее в маслянистую гладь
темневшей воды. Сверкнув капроновой леской, грузило с тихим плеском стремительно
ушло под воду, увлекая за собой и наживку.
- Ты вот что, дед! - резким голосом сказал он под обрывом. - Брось юродствовать!
Комедию играть! Никто к тебе оттуда не придет. Понял?
Петрович на обрыве легонько вздрогнул, будто от холода, пальцы его замерли на груди, и
вся его худая, костлявая фигура под кителем съежилась, сжалась. Но взгляд его по-
прежнему был устремлен к заречному берегу, на этом, казалось, он не замечал ничего и
вроде бы даже и не слышал неласковых слов Коломийца. Коломиец тем временем с
привычной сноровкой забросил в воду еще две или три донки, укрепил в камнях короткие,
с малюсенькими звоночками удильца.
***
- Они все тебя, дурня, за нос водят, поддакивают. А ты и веришь. Придут! Кто придет,
когда уже война вон когда кончилась! Подумай своей башкой.
На реке заметно темнело, тусклый силуэт Коломийца неясно шевелился у самой воды.
Больше он ничего не сказал старику и все возился с насадкой и удочками, а Петрович,
некоторое время посидев молча, заговорил раздумчиво и тихо:
- Так это младший, Толик... На глаза заболел. Как стемнеет, ничего не видит. Старший,
тот видел хорошо. А если со старшим что?..
- Что со старшим, то же и с младшим, - грубо оборвал его Коломиец. - Война, она ни с кем
не считалась. Тем более в блокаду.
- Ну! - просто согласился старик. - Аккурат блокада была. Толик с глазами неделю только
дома и пробыл, аж прибегает Алесь, говорит: обложили со всех сторон, а сил мало. Ну и
пошли. Младшему шестнадцать лет было. Остаться просил - ни в какую. Как немцы
уйдут, сказали костерок разложить...
- От голова! - удивился Коломиец и даже привстал от своих донок. - Сказали -
разложить!.. Когда это было?!
- Да на Петровку. Аккурат на Петровку, да...
- На Петровку! А сколько тому лет прошло, ты соображаешь?
- Лет?
Старик, похоже, крайне удивился и, кажется, впервые за вечер оторвал свой
страдальческий взгляд от едва брезжившей в сутеми лесной линии берега.
- Да, лет? Ведь двадцать пять лет прошло, голова еловая!
Гримаса глубокой внутренней боли исказила старческое лицо Петровича. Губы его совсем
по-младенчески обиженно задрожали, глаза быстро-быстро заморгали, и взгляд разом
потух. Видно, только теперь до его помраченного сознания стал медленно доходить весь
страшный смысл его многолетнего заблуждения.
- Так это... Так это как же?..
Внутренне весь напрягшись в каком-то усилии, он, наверно, хотел и не мог выразить
какую-то оправдательную для себя мысль, и от этого непосильного напряжения взгляд его
сделался неподвижным, обессмыслел и сошел с того берега. Старик на глазах сник,
помрачнел еще больше, ушел весь в себя. Наверно, внутри у него было что-то такое, что
надолго сковало его неподвижностью и немотой.
- Я тебе говорю, брось эти забавки, - возясь со снастями, раздраженно убеждал внизу
Коломиец. - Ребят не дождешься. Амба обоим. Уже где-нибудь и косточки сгнили. Вот
так!
Старик молчал. Занятый своим делом, замолчал и Коломиец. Сумерки наступающей ночи
быстро поглощали берег, кустарник, из приречных оврагов поползли сизые космы тумана,
легкие дымчатые струи его потянулись по тихому плесу. Быстро тускнея, река теряла свой
дневной блеск, темный противоположный берег широко опрокинулся в ее глубину, залив
речную поверхность гладкой непроницаемой чернотой. Землечерпалка перестала
громыхать, стало совсем глухо и тихо, и в этой тишине тоненько и нежно, как из
неведомого далека, тиликнул маленький звоночек донки. Захлябав по камням подошвами
резиновых сапог, Коломиец бросился к крайней на берегу удочке и, сноровисто перебирая
руками, принялся выматывать из воды леску. Он не видел, как Петрович на обрыве трудно
поднялся, пошатнулся и, сгорбившись, молча побрел куда-то прочь от этого берега.
Наверно, в темноте старик где-то разошелся с Юрой, который вскоре появился на обрыве
и, крякнув, бросил к ногам трескучую охапку валежника - большую охапку рядом с
маленькой вязанкой Петровича.
- А где дед?
- Гляди, какого взял! - заслышав друга, бодро заговорил под обрывом Коломиец. - Келбик
что надо! Полкило потянет...
- А Петрович где? - почуяв недоброе, повторил вопрос Юра.
- Петрович? А кто его... Пошел, наверно. Я сказал ему...
- Как? - остолбенел на обрыве Юра. - Что ты сказал?
- Все сказал. А то водят полоумного за нос. Поддакивают...
- Что ты наделал? Ты же его убил!
- Так уж и убил! Жив будет!
- Ой же и калун! Ой же и тумак! Я же тебе говорил! Его же тут берегли все! Щадили! А
ты?..
- Что там щадить. Пусть правду знает.
- Такая правда его доконает. Ведь они погибли оба в блокаду. А перед тем он их сам вон
туда на лодке отвозил.
С.Санин `Семьдесят два градуса ниже нуля`
Гаврилов - вот кто не давал Синицыну покоя.
Память, не подвластная воле человека, сделала с Синицыным то, чего он боялся больше
всего, перебросила его в 1942 год.
Он стоял на часах у штаба, когда комбат, сибиряк с громовым басом, отдавал приказ
командирам рот. И Синицын услышал, что батальон уходит, оставляя на высоте один
взвод. Этот взвод должен сражаться до последнего патрона, но задержать фашистов хотя
бы на три часа. Его, Синицына, взвод, второй взвод первой роты! И тогда с ним, безусым
мальчишкой, случился солнечный удар. Жара стояла страшная, такие случаи бывали, и
пострадавшего, облив водой, увезли на повозке. Потом по дивизии объявляли приказ
генерала и салютовали павшим героям, больше суток отбивавшим атаки фашистов. И тут
командир роты увидел рядового Синицына.
Ты жив?!
Синицын сбивчиво объяснил, что у него был солнечный удар и поэтому
Поня-ятно, протянул комроты и посмотрел на Синицына.
Никогда не забыть ему этого взгляда! С боями дошел до Берлина, честно заслужил два
ордена, смыл никем не доказанную и никому не известную вину кровью, но этот взгляд
долго преследовал его по ночам.
А теперь еще и Гаврилов.
Перед самым уходом Визе к нему подошел Гаврилов и, явно пересиливая себя,
неприязненно буркнул: Топливо подготовлено?
Синицын, измученный бессонницей, падающий с ног от усталости, утвердительно кивнул.
И Гаврилов ушел, не попрощавшись, словно жалея, что задал лишний и ненужный вопрос.
Ибо само собой разумелось, что ни один начальник транспортного отряда не покинет
Мирный, не подготовив своему сменщику зимнего топлива и техники. Ну, не было в
истории экспедиций такого случая и не могло быть! Поэтому в заданном Гавриловым
вопросе любой на месте Синицына услышал бы хорошо рассчитанную бестактность,
желание обидеть и даже оскорбить недоверием.
Синицын точно помнил, что кивнул он утвердительно.
Но ведь зимнее топливо, как следует, он подготовить не успел! То есть подготовил,
конечно, но для своего похода, который должен был состояться полярным летом. А
Гаврилов пойдет не летом, а в мартовские морозы, и поэтому для его похода топливо
следовало готовить особо. И работа чепуховая: добавить в цистерны с соляром нужную
дозу керосина, побольше обычного, тогда никакой мороз не возьмет. Как он мог
запамятовать!
Синицын чертыхнулся. Нужно немедленно бежать в радиорубку, узнать, вышел ли
Гаврилов в поход. Если не вышел, сказать правду: извини, оплошал, забыл про топливо,
добавь в соляр керосина. Если же Гаврилов в походе, поднять тревогу, вернуть поезд в
Мирный, даже ценой потери нескольких дней, чтобы разбавить солярку.
Синицын начал одеваться, сочиняя в уме текст радиограммы, и остановился. Стоит ли
поднимать панику, на скандал, проработку напрашиваться? Ну какие будут на трассе
морозы? Градусов под шестьдесят, не больше, для таких температур и его солярка вполне
сгодится.
Успокоив себя этой мыслью, Синицын снял с кронштейна графин с водой, протянул руку
за стаканом и нащупал на столе коробочку. В полутьме прочитал: люминал. И у Женьки
нервишки на взводе Сунул в рот две таблетки, запил водой, лег и забылся тяжелым сном.
Через три часа санно-гусеничный поезд Гаврилова ушел из Мирного на Восток на
смертельный холод
***
Н.Н.Никитайская
Семьдесят лет прожито, а ругать себя не перестаю. Ну, что мне стоило, пока живы были
родители, расспросить их обо всем, все подробно записать, чтобы и самой помнить, и по
возможности другим рассказать. Но нет, не записывала. Да и слушала-то невнимательно,
так, как в основном и слушают родителей их дети. Ни мама, ни папа не любили
возвращаться к прожитому и пережитому в войну. Но временами… Когда гости
приходили, когда настроение повспоминать нападало и так — ни с того ни с сего… Ну,
например, приходит мама от соседки, Антонины Карповны, и говорит: «Карповна мне
сказала: "Галька, ты у нас ненайденный герой”. Это я ей рассказала, как из-под Луги из
окружения выходила».
К началу войны маме было восемнадцать лет, и была она фельдшером, сельским врачом.
Папе было двадцать четыре года. И он был летчиком гражданской авиации.
Познакомились и полюбили друг друга они в Вологде. Мама была очень хорошенькой,
живой и легкомысленной.
Профессия летчика до войны относилась к романтическим профессиям. Авиация
«становилась на крыло». Люди, причастные к этому становлению, сразу попадали в
разряд избранных. Еще бы: не каждому дано обживать небеса. О вольностях, которые
позволяли себе пилоты тех времен, напомнит, например, пролет Чкалова под Троицким
мостом в Ленинграде. Правда, историки считают, что это придумали киношники для
фильма. Но легенды легендами, а мой папа абсолютно точно пролетал «на бреющем» над
крышей маминого дома. Чем и покорил маму окончательно.
В первый же день войны, как военнообязанные, и папа, и мама надели военную форму.
Оба были отправлены на Ленинградский фронт. Мама — с госпиталем, папа — в
авиаполк. Папа служил в авиационном полку. Начинали войну на У-2. Никакого
серьезного оснащения на самолетах не было, даже радиосвязи. Но ведь воевали!
Однажды когда папа во главе эскадрильи этих двухместных кораблей неба возвращался с
задания, он увидел внизу, на шоссе, ведущем в город, сломанный санитарный автобус.
Возле него возился водитель, пытаясь устранить поломку. И отчаянно махала кофтой
нашим самолетам медсестра. И сверху папа увидел, что по этому же шоссе и тоже в
сторону города марширует колонна немцев. И вот-вот автобус с ранеными, с шофером и
медсестрой окажется у них на пути. Исход такой встречи был предрешен. «Знаешь, я
сразу о Гале подумал. На месте этой сестрички могла быть и она. И тогда я просигналил
крыльями команду: "Делай, как я“ — и пошел на посадку перед автобусом». Когда
приземлились и пересчитали людей, оказалось, что всех не забрать, что трое остаются за
бортом. «Я прикинул мощность машин и в некоторые распределил не по человеку, а по
два человека». И один из летчиков заорал тогда: «Командир, хочешь, чтобы я гробанулся!
Не полечу с двумя! Себе-то одного посадил…» «Я-то знал, что его машина надежнее, но
спорить не стал, некогда было спорить. Говорю: "Полечу на твоей, а ты бери мою
машину“».
Вообще-то вся эта история кажется специально придуманной для кино, для непременного
использования параллельного монтажа, чтобы еще больше накалить страсти. Вот раненые
с трудом карабкаются по фюзеляжу в кабину, а колонна фрицев марширует уже в
пределах видимости, а вот взлетает в небо первый наш самолет с раненым, и немец
готовит свой «шмайссер» к стрельбе… Ну, и так далее… И в реальной жизни, когда
взлетал последний летчик, фашисты действительно открыли стрельбу… А потом об этом
случае писали в газете, но беспечная наша семья, конечно, ее не сохранила.
Эти мои заметки я пишу сейчас не только для того, чтобы, пусть и запоздало, признаться в
любви к своим прожившим очень нелегкую, но такую честную жизнь родителям. Были
миллионы других таких же советских людей, которые одолели фашизм и не потеряли
человеческого лица. И я очень не хочу, чтобы они были забыты. (По Н.Н.Никитайцевой)
Симонов
Все трое немцев были из белградского гарнизона и прекрасно знали, что это могила
Неизвестного солдата и что на случай артиллерийского обстрела у могилы и толстые и
прочные стены. Это было по их мнению, хорошо, а все остальное их нисколько не
интересовало. Так обстояло с немцами.
Русские тоже рассматривали этот холм с домиком на вершине как прекрасный
наблюдательный пункт, но наблюдательный пункт неприятельский и, следовательно,
подлежащий обстрелу.
— Что это за жилое строение? Чудное какое-то, сроду такого не видал,— говорил
командир батареи капитан Николаенко, в пятый раз внимательно рассматривая в бинокль
могилу Неизвестного солдата.— А немцы сидят там, это уж точно. Ну как, подготовлены
данные для ведения огня?
— Так точно! — отрапортовал стоявший рядом с капитаном командир взвода
молоденький лейтенант Прудников.
— Начинай пристрелку.
Пристрелялись быстро, тремя снарядами. Два взрыли обрыв под самым парапетом, подняв
целый фонтан земли. Третий ударил в парапет. В бинокль было видно, как полетели
осколки камней.
— Ишь брызнуло!—сказал Николаенко.— Переходи на поражение.
Но лейтенант Прудников, до этого долго и напряженно, словно что-то вспоминая,
всматривавшийся в бинокль, вдруг полез в полевую сумку, вытащил из нее немецкий
трофейный план Белграда и, положив его поверх своей двухверстки, стал торопливо
водить по нему пальцем.
— В чем дело? — строго сказал Николаенко.— Нечего уточнять, все и так ясно.
— Разрешите, одну минуту, товарищ капитан,— пробормотал Прудников.
Он несколько раз быстро посмотрел на план, на холм и снова на план и вдруг, решительно
уткнув палец в какую-то наконец найденную им точку, поднял глаза на капитана:
— А вы знаете, что это такое, товарищ капитан?
— Что?
— А все — и холм, и это жилое строение?
— Ну?
— Это могила Неизвестного солдата. Я все смотрел и сомневался. Я где-то на фотографии
в книге видел. Точно. Вот она и на плане — могила Неизвестного солдата.
Для Прудникова, когда-то до войны учившегося на историческом факультете МГУ, это
открытие представлялось чрезвычайно важным. Но капитан Николаенко неожиданно для
Прудникова не проявил никакой отзывчивости. Он ответил спокойно и даже несколько
подозрительно:
— Какого еще там неизвестного солдата? Давай веди огонь.
— Товарищ капитан, разрешите!—просительно глядя в глаза Николаенко, сказал
Прудников.
— Ну что еще?
— Вы, может быть, не знаете... Это ведь не просто могила. Это, как бы сказать,
национальный памятник. Ну...— Прудников остановился, подбирая слова.— Ну, символ
всех погибших за родину. Одного солдата, которого не опознали, похоронили вместо всех,
в их честь, и теперь это для всей страны как память.
— Подожди, не тараторь,— сказал Николаенко и, наморщив лоб, на целую минуту
задумался.
Был он большой души человек, несмотря на грубость, любимец всей батареи и хороший
артиллерист. Но, начав войну простым бойцом-наводчиком и дослужившись кровью и
доблестью до капитана, в трудах и боях так и не успел он узнать многих вещей, которые,
может, и следовало бы знать офицеру. Он имел слабое понятие об истории, если дело не
шло о его прямых счетах с немцами, и о географии, если вопрос не касался населенного
пункта, который надо взять. А что до могилы Неизвестного солдата, то он и вовсе слышал
о ней в первый раз.
Однако, хотя сейчас он не все понял в словах Прудникова, он своей солдатской душой
почувствовал, что, должно быть, Прудников волнуется не зря и что речь идет о чем-то в
самом деле стоящем.
— Подожди,— повторил он еще раз, распустив морщины.— Ты скажи толком, чей солдат,
с кем воевал,— вот ты мне что скажи!
— Сербский солдат, в общем, югославский,— сказал Прудников.— Воевал с немцами в
прошлую войну четырнадцатого года.
— Вот теперь ясно.
Николаенко с удовольствием почувствовал, что теперь действительно все ясно и можно
принять по этому вопросу правильное решение.
— Все ясно,— повторил он.— Ясно, кто и что. А то плетешь невесть чего —
«неизвестный, неизвестный». Какой же он неизвестный, когда он сербский и с немцами в
ту войну воевал? Отставит
Качалков
(1)Как время меняет людей! (2)Неузнаваемо! (3)Порою это даже не изменения, а
настоящие метаморфозы! (4)В детстве была принцесса, повзрослела – превратилась в
пиранью. (5)А бывает наоборот: в школе – серая мышка, незаметная, невидная, а потом на
тебе – Елена Прекрасная. (6)Почему так бывает? (7)Кажется, Левитанский писал, что
каждый выбирает себе женщину, религию, дорогу... (8)Только не ясно: действительно ли
человек сам выбирает для себя дорогу или какая-то сила толкает его на тот или иной путь?
(9)На самом ли деле наша жизнь изначально предначертана свыше: рождённый ползать
летать не может?.. (10)Или всё дело в нас: ползаем мы потому, что не захотели напрягать
свои крылья? (11)Не знаю! (12)В жизни полным-полно примеров как в пользу одного
мнения, так и в защиту другого.
(13)Выбирай, что хочешь?..
(14)Максима Любавина мы в школе называли Эйнштейном. (15)Правда, внешне он
нисколько не походил на великого учёного, но зато имел все замашки гениев: был
рассеян, задумчив, в его голове всегда бурлил сложный мыслительный процесс,
совершались какие-то открытия, и это часто приводило к тому, что он, как шутили
одноклассники, был не в адеквате. (16)Спросят, бывало, его на биологии, а он,
оказывается, в это время каким-то мудрёным способом рассчитывал излучение каких-то
там нуклидов. (17)Выйдет к доске, начнёт писать непонятные формулы.
(18)Учительница биологии плечами пожмёт:
(19) – Макс, ты про что?
(20)Тот спохватится, стукнет себя по голове, не обращая внимания на смех в классе, тогда
уж начнёт рассказывать то, что нужно, например, про дискретные законы
наследственности.
(21)На дискотеки, классные вечера он носу не показывал. (22)Ни с кем не дружил, так –
приятельствовал. (23)Книги, компьютер – вот его верные товарищи-братья. (24)Мы между
собой шутили: запомните хорошенько, как одевался Максим Любавин, где он сидел. (25)А
лет через десять, когда ему вручат Нобелевскую премию, сюда понаедут журналисты,
хоть будет что про своего великого одноклассника рассказать.
(26)После школы Макс поступил в университет. (27)Блестяще окончил его... (28)А потом
наши дороги разошлись. (29)Я стал военным, надолго уехал из родного города, обзавёлся
семьей. (30)Жизнь у военного бурная: только соберёшься в отпуск – какое-нибудь ЧП...
(31)Но вот всё же удалось с женой и двумя дочками вырваться на родину. (32)На вокзале
сговорились с частником, и он повёз нас на своей машине до родительского дома.
(33) – Тольк, ты меня не узнал что ли? – вдруг спросил водитель. (34)Я изумлённо
посмотрел на него. (35)Высокий, костистый мужчина, жидкие усики, очки, шрам на
щеке... (36)Не знаю такого! (37)Но голос, действительно, знакомый. (38)Макс Любавин?!
(39)Да не может быть! (40)Великий физик занимается частным извозом?
(41) – Нет! (42)Бери выше! – усмехнулся Макс. – (43)Я грузчиком на оптовом рынке
работаю...
(44)По моему лицу он понял, что я счёл эти слова шуткой.
(45) – Да нет! (46)Просто я умею считать! (47)У нас сахар мешками продают! (48)Я
вечером из каждого мешка грамм по триста-четыреста отсыплю...(49)Знаешь, сколько в
месяц выходит, если не жадничать? (50)Сорок тысяч! (51)Вот и прикинь, если бы я стал
учёным, получал бы я такие деньги? (52)На выходных можно извозом подкалымить,
подвёз пару клиентов – ещё тысяча. (53)На булочку с маслом хватает...
(54)Он довольно засмеялся. (55)Я покачал головой.
(56) – Макс, а вот с сахаром – это не воровство?
(57) – Нет! (58)Бизнес! – ответил Макс.
(59)Он довёз меня до дома. (60)Я дал ему двести рублей, он вернул десятку сдачи и
поехал искать новых клиентов.
(61) – Вместе учились? – спросила жена.
(62) – Это наш Эйнштейн! – сказал я ей. – (63)Помнишь, я про него рассказывал!
(64) – Эйнштейн?
(65) – Только бывший! – с печальным вздохом произнёс я.
Куваев
Когда пошел снег, Салахов все еще находился на старой базе Катинского.
От снега база с ее грудами ржавых консервных банок, выброшенными кирзовыми
сапогами, опорками валенок, темными бочками из-под солярки и керосина
выглядела неприютно, как запустелый, разоренный, загаженный дом. В палатке
по ночам стало холодно. Салахов мотался по окрестностям, набирал пробы в
рюкзак. Пробы он приносил Богу Огня, который, закутавшись в плащ, сидел у
воды и хлюпал носом. Когда Салахов приносил пробу, он лишь моргал
слезящимися от простуды глазами, сбрасывал плащ и шел в воду. Салахов очень
его жалел.
- Потерпи, - сказал он.
- А я чего? Я терплю! - быстро ответил Бог Огня. Они ушли с базы
Катинского, так и не найдя ничего, кроме ничтожных "знаков". Отсыревшая
палатка и спальные мешки отяжелели и не влезали в рюкзаки. Когда собрали
лагерь, Салахов взял рюкзак Бога Огня, положил его сверху на свой. Бог Огня
косился на Салахова из-под капюшона и боязливо молчал.
- Я сам, я сам, - наконец сказал он. Лицо у него было серым, и зубы
постукивали в ознобе. Так как Салахов ему не ответил, то Бог Огня
пробормотал, оправдываясь:
- Простудился я маленько. Только пустому мне срамотно идти.
- Придем на Ватап, там кусты, - сказал Салахов. - Устрою тебе парную, и
будешь здоровый.
- Костер запалим?
- На всю тундру и дальше.
- Тут полубочка валяется. Надо взять, ежели баня.
- Где?
- Я понесу. Она легонькая, - засуетился Бог Огня. Салахов ушел вперед,
чтобы мыть по дороге шлихи. След Салахова был ровный, синий, в каждом
маленькая лужа воды. К середине дня через низкий перевал они вышли к реке
Ватап чуть выше того места, где переправлялся Сергей Баклаков.
Бог Огня сбросил бочку и сразу разжег костер. Салахов выбрал косу с
ровной галькой, расчистил от снега, натаскал сухих веток. Снег перестал, но
облака так и висели: выстрели дробью - прольются осадками. Они быстро
наносили кучу сушняка величиной с большую копну. Бог Огня запалил ее, и
скоро на гальке полыхал огромный и жаркий костер. Когда костер прогорел, в
центр его поставили наполненную водой полубочку и, приплясывая от жары,
натянули мокрую палатку прямо над раскаленными камнями. Салахов притащил
охапку зеленых веток, бросил ее в палатку, велел Богу Огня раздеваться и
залез следом сам. Банка воды, опрокинутая на гальку, взорвалась паром. Бог
Огня блаженно взвыл, и так полчаса из палатки доносились взрывы пара,
хлестание веток и стон. Салахов нагишом выскочил из парилки, разостлал на
сухой гальке кукуль и велел выбегать Богу Огня. Тот нырнул в мех. Салахов
разжег рядом костер и поставил банки для чая. Морщины на лице Бога Огня
разгладились, носик блестел. Он держал обеими руками кружку, прихлебыва
чай, и расцветал на глазах от заботы.
Паустовский
Мы прожили несколько дней на кордоне, ловили рыбу на Шуе, охотились на озере Орса,
где было всего несколько сантиметров чистой воды, а под ней лежал бездонный вязкий
ил. Убитых уток, если они падали в воду, нельзя было достать никаким способом. По
берегам Орса приходилось ходить на широких лесниковских лыжах, чтобы не
провалиться в трясины.
Но больше всего времени мы проводили на Пре. Я много видел живописных и глухих
мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную,
чем Пра.
Сосновые сухие леса на ее берегах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с
зарослями ивы, ольхи и осины. Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как
медные литые мосты, над ее коричневой, но совершенно прозрачной водой. С этих сосен
мы удили упористых язей.
Перемытые речной водой и перевеянные ветром песчаные косы поросли мать-и-мачехой и
цветами. За все время мы не видали на этих белых песках ни одного человеческого следа –
только следы волков, лосей и птиц.
Заросли вереска и брусники подходили к самой воде, перепутываясь с зарослями рдеста,
розовой частухи и телореза.
Река шла причудливыми изгибами. Ее глухие затоны терялись в сумраке прогретых лесов.
Над бегучей водой беспрерывно перелетали с берега на берег сверкающие сизоворонки и
стрекозы, а в вышине парили огромные ястребы.
Все доцветало вокруг. Миллионы листьев, стеблей, веток и венчиков преграждали дорогу
на каждом шагу, и мы терялись перед этим натиском растительности, останавливались и
дышали до боли в легких терпким воздухом столетней сосны. Под деревьями лежали слои
сухих шишек. В них нога тонула по косточку.
Иногда ветер пробегал по реке с низовьев, из лесистых пространств, оттуда, где горело в
осеннем небе спокойное и еще жаркое солнце. Сердце замирало от мысли, что там, куда
струится эта река, почти на двести километров только лес, лес и нет никакого жилья.
Лишь кое-где на берегах стоят шалаши смолокуров и тянет по лесу сладковатым дымком
тлеющего смолья.
Но удивительнее всего в этих местах был воздух. В нем была полная и совершенная
чистота. Эта чистота придавала особую резкость, даже блеск всему, что было окружено
этим воздухом. Каждая сухая ветка сосны была видна среди темной хвои очень далеко.
Она была как бы выкована из заржавленного железа. Далеко было видно каждую нитку
паутины, зеленую шишку в вышине, стебель травы.
Ясность воздуха придавала какую-то необыкновенную силу и первозданность
окружающему, особенно по утрам, когда все было мокро от росы и только голубеющая
туманка еще лежала в низинах.
А среди дня и река и леса играли множеством солнечных пятен – золотых, синих, зеленых
и радужных. Потоки света то меркли, то разгорались и превращали заросли в живой,
шевелящийся мир листвы. Глаз отдыхал от созерцания могучего и разнообразного
зеленого цвета.
Полет птиц разрезал этот искристый воздух: он звенел от взмахов птичьих крыльев.
Лесные запахи набегали волнами. Подчас трудно было определить эти запахи. В них
смешивалось все: дыхание можжевельника, вереска, воды, брусники, гнилых пней,
грибов, кувшинок, а может быть, и самого неба… Оно было таким глубоким и чистым,
что невольно верилось, будто эти воздушные океаны тоже приносят свой запах – озона и
ветра, добежавшего сюда от берегов теплых морей.
Очень трудно подчас передать свои ощущения. Но, пожалуй, вернее всего можно назвать
то состояние, которое испытывали все мы, чувством преклонения перед не поддающейся
никаким описаниям прелестью родной стороны.
Тургенев говорил о волшебном русском языке. Но он не сказал о том, что волшебство
языка родилось из этой волшебной природы и удивительных свойств человека.
А человек был удивителен и в малом и в большом: прост, ясен и доброжелателен. Прост в
труде, ясен в своих размышлениях, доброжелателен в отношении к людям. Да не только к
людям, а и к каждому доброму зверю, к каждому дереву.
Бакланов
Опять бьет немецкая минометная батарея, та самая, но теперь разрывы ложатся левей. Это
она била с вечера. Шарю, шарю стереотрубой — ни вспышки, ни пыли над огневыми
позициями — все скрыто гребнем высот. Кажется, руку бы отдал, только б уничтожить ее.
Я примерно чувствую место, где она стоит, и уже несколько раз пытался eе уничтожить,
но она меняет позиции. Вот если бы высоты были наши! Но мы сидим в кювете дороги,
выставив над собой стереотрубу, и весь наш обзор — до гребня.
Мы вырыли этот окоп, когда земля была еще мягкая. Сейчас дорога, развороченная
гусеницами, со следами ног, колес по свежей грязи, закаменела и растрескалась. Не
только мина — легкий снаряд почти не оставляет на ней воронки: так солнце прокалило
ее.
Когда мы высадились на этот плацдарм, у нас не хватило сил взять высоты. Под огнем
пехота залегла у подножия и спешно начала окапываться. Возникла оборона. Она
возникла так: упал пехотинец, прижатый пулеметной струей, и прежде всего подрыл
землю под сердцем, насыпал холмик впереди головы, защищая ее от пули. К утру на этом
месте он уже ходил в полный рост в своем окопе, зарылся в землю — не так-то просто
вырвать его отсюда.
Из этих окопов мы несколько раз поднимались в атаку, но немцы опять укладывали нас
огнем пулеметов, шквальным минометным и артиллерийским огнем. Мы даже не можем
подавить их минометы, потому что не видим их. А немцы с высот просматривают и весь
плацдарм, и переправу, и тот берег. Мы держимся, зацепившись за подножие, мы уже
пустили корни, и все же странно, что они до сих пор не сбросили нас в Днестр. Мне
кажется, будь мы на тех высотах, а они здесь, мы бы уже искупали их.
Даже оторвавшись от стереотрубы и закрыв глаза, даже во сне я вижу эти высоты,
неровный гребень со всеми ориентирами, кривыми деревцами, воронками, белыми
камнями, проступившими из земли, словно это обнажается вымытый ливнем скелет
высоты.
Когда кончится война и люди будут вспоминать о ней, наверное, вспомнят великие
сражения, в которых решался исход войны, решались судьбы человечества. Войны всегда
остаются в памяти великими сражениями. И среди них не будет места нашему плацдарму.
Судьба его — как судьба одного человека, когда решаются судьбы миллионов. Но, между
прочим, нередко судьбы и трагедии миллионов начинаются судьбой одного человека.
Только об этом забывают почему-то.
С тех пор как мы начали наступать, сотни таких плацдармов захватывали мы на всех
реках. И немцы сейчас же пытались сбросить нас, а мы держались, зубами, руками
вцепившись в берег. Иногда немцам удавалось это. Тогда, не жалея сил, мы захватывали
новый плацдарм. И после наступали с него.
Я не знаю, будем ли мы наступать с этого плацдарма. И никто из нас не может знать
этого. Наступление начинается там, где легче прорвать оборону, где есть для танков
оперативный простор. Но уже одно то, что мы сидим здесь, немцы чувствуют и днем и
ночью. Недаром они дважды пытались скинуть нас в Днестр. И еще попытаются.
Теперь уже все, даже немцы, знают, что война скоро кончится. И как она кончится, они
тоже знают. Наверное, потому так сильно в нас желание выжить. В самые трудные месяцы
сорок первого года, в окружении, за одно то, чтобы остановить немцев перед Москвой,
каждый, не задумываясь, отдал бы жизнь. Но сейчас вся война позади, большинство из
нас увидит победу, и так обидно погибнуть в последние месяцы
Астафьев
В клетке зоопарка тосковал глухарь. Днем. Прилюдно. Клетка величиной в два-три
письменных стола являла собой и тюрьму, и "тайгу" одновременно. В углу ее было
устроено что-то вроде засидки в раскоренье. Над засидкой торчал сучок сосны с
пересохшей, неживой хвоей, на клетке разбросана или натыкана трава, несколько кочек
изображено и меж ними тоже "лес" - вершинка сосны, веточка вереска, иссохшие былки
кустиков, взятые здесь же, в зоопарке, после весенней стрижки.
Глухарь в неволе иссох до петушиного роста и веса, перо в неволе у него не обновлялось,
только выпадало, и в веером раскинутом хвосте не хватало перьев, светилась дыра, шея и
загривок птицы были ровно бы в свалявшейся шерсти. И только брови налились красной
яростью, горели воинственно, зоревой дугою охватив глаза, то и дело затягивающиеся
непроницае- мой, слепой пленкой таежной темнозори, забвением тоскую- щего самца.
Перепутав время и место, не обращая внимания на скопище любопытных людей, пленный
глухарь исполнял назначенное ему природой - песню любви. Неволя не погасила в нем
вешней страсти и не истребила стремления к продлению рода своего.
Он неторопливо, с достоинством бойца, мешковато топтался на тряпично-вялой траве меж
кочек, задирал голову и, целясь клювом в небесную звезду, взывал к миру и небесам,
требовал, чтоб его слышали и слушали. И начавши песню с редких, отчетливых щелчков,
все набирающих силу и частоту, он входил в такое страстное упоение, в такую
забывчивость, что глаза его снова и снова затягивало пленкой, он замирал на месте, и
только чрево его раскаленное, горло ли, задохшееся от любовного призыва, еще
продолжало перекатывать, крошить камешки на шебаршащие осколки.
В такие мгновения птичий великан глохнет и слепнет, и хитрый человек, зная это,
подкрадывается к нему и убивает его. Убивает в момент весеннего пьянящего торжества,
не давши закончить песню любви.
Не видел, точнее, никого не хотел видеть и замечать этот пленник, он жил, продолжал
жить и в неволе назначенной ему природой жизнью, и когда глаза его "слепли", уши
"глохли", он памятью своей уносился на дальнее северное болото, в реденькие сосняки и,
задирая голову, целился клювом, испачканным сосновою смолою, в ту звезду, что светила
тысячи лет его пернатым братьям.
Глядя на невольника-глухаря, я подумал, что когда-то птицы-великаны жили и пели на
свету, но люди загнали их в глушь и темень, сделали отшельниками, теперь вот и в клетку
посадили. Оттесняет и оттесняет человек все живое в тайге газонефтепроводами, адскими
факелами, электротрассами, нахрапистыми вертолетами, беспощадной, бездушной
техникой дальше, глубже. Но велика у нас страна, никак до конца не добить природу, хотя
и старается человек изо всех сил, да не может свалить под корень все живое и под корень
же свести не лучшую ее частицу, стало быть, себя. Обзавелся вот "природой" на дому,
приволок ее в город - на потеху и для прихоти своей. Зачем ему в тайгу, в холодную
Лихачёв
Говорят, что содержание определяет форму. Это верно, но верно и противоположное, что
от формы зависит содержание. Известный американский психолог начала этого века Д.
Джеймс писал: «Мы плачем оттого, что нам грустно, но и грустно нам оттого, что мы
плачем».
Когда-то считалось неприличным показывать всем своим видом, что с вами произошло
несчастье, что у вас горе. Человек не должен был навязывать свое подавленное состояние
другим. Надо было и в горе сохранять достоинство, быть ровным со всеми, не
погружаться в себя и оставаться по возможности приветливым и даже веселым. Умение
сохранять достоинство, не навязываться другим со своими огорчениями, не портить
другим настроение, быть всегда ровным в обращении с людьми, быть всегда приветливым
и веселым – это большое и настоящее искусство, которое помогает жить в обществе и
самому обществу.
Но каким веселым надо быть? Шумное и навязчивое веселье утомительно окружающим.
Вечно «сыплющий» остротами молодой человек перестает восприниматься как достойно
ведущий себя. Он становится шутом. А это худшее, что может случиться с человеком в
обществе, и это означает в конечном счете потерю юмора.
Не быть смешным – это не только умение себя вести, но и признак ума.
Смешным можно быть во всем, даже в манере одеваться. Если мужчина тщательно
подбирает галстук к рубашке, рубашку к костюму – он смешон. Излишняя забота о своей
наружности сразу видна. Надо заботиться о том, чтобы одеваться прилично, но эта забота
у мужчин не должна переходить известных границ. Чрезмерно заботящийся о своей
наружности мужчина неприятен. Женщина – это другое дело. У мужчин же в одежде
должен быть только намек на моду. Идеально чистая рубашка, чистая обувь и свежий, но
не очень яркий галстук – этого достаточно. Костюм может быть старый, он не должен
быть только неопрятен.
Не мучайтесь своими недостатками, если они у вас есть. Если вы заикаетесь, не думайте,
что это уж очень плохо. Заики бывают превосходными ораторами, обдумывая каждое свое
слово. Лучший лектор славившегося своими красноречивыми профессорами Московского
университета историк В. О. Ключевский заикался.
Не стесняйтесь своей застенчивости: застенчивость очень мила и совсем не смешна. Она
становится смешной, только если вы слишком стараетесь ее преодолеть и стесняетесь ее.
Будьте просты и снисходительны к своим недостаткам. Не страдайте от них. У меня есть
знакомая девушка, чуть горбатая. Честное слово, я не устаю восхищаться ее изяществом в
тех редких случаях, когда встречаю ее в музеях на вернисажах. Хуже нет, когда в человеке
развивается «комплекс неполноценности», а вместе с ним озлобленность,
недоброжелательность к другим лицам, зависть. Человек теряет то, что в нем самое
хорошее, – доброту.
Нет лучшей музыки, чем тишина, тишина в горах, тишина в лесу. Нет лучшей «музыки в
человеке», чем скромность и умение помолчать, не выдвигаться на первое место. Нет
ничего более неприятного и глупого в облике и поведении человека, чем важность или
шумливость; нет ничего более смешного в мужчине, чем чрезмерная забота о своем
костюме и прическе, рассчитанность движений и «фонтан острот» и анекдотов, особенно
если они повторяются.
Простота и «тишина» в человеке, правдивость, отсутствие претензий в одежде и
поведении – вот самая привлекательная «форма» в человеке, которая становится и его
самым элегантным «содержанием».
(По Д.С. Лихачёву)
Чуковский
На днях пришла ко мне молодая студентка, незнакомая, бойкая, с какой-то незатейливой
просьбой. Исполнив ее просьбу, я со своей стороны попросил ее сделать мне милость и
прочитать вслух из какой-нибудь книги хоть пять или десять страничек, чтобы я мог
полчаса отдохнуть.
Она согласилась охотно. Я дал ей первое, что попало мне под руку, — повесть Гоголя
«Невский проспект», закрыл глаза и с удовольствием приготовился слушать.
Таков мой любимый отдых.
Первые страницы этой упоительной повести прямо-таки невозможно читать без восторга:
такое в ней разнообразие живых интонаций и такая чудесная смесь убийственной иронии,
сарказма и лирики. Ко всему этому девушка оказалась слепа и глуха. Читала Гоголя, как
расписание поездов, — безучастно, монотонно и тускло. Перед нею была великолепная,
узорчатая, многоцветная ткань, сверкающая яркими радугами, но для нее эта ткань была
серая.
Конечно, при чтении она сделала немало ошибок. Вместо блАга прочитала благА, вместо
меркантильный — мекрантильный и сбилась, как семилетняя школьница, когда дошла до
слова фантасмагория, явно не известного ей.
Но что такое безграмотность буквенная по сравнению с душевной безграмотностью! Не
почувствовать дивного юмора! Не откликнуться душой на красоту! Девушка показалась
мне монстром, и я вспомнил, что именно так — тупо, без единой улыбки — читал того же
Гоголя один пациент Харьковской психиатрической клиники.
Чтобы проверить свое впечатление, я взял с полки другую книгу и попросил девушку
прочитать хоть страницу «Былого и дум». Здесь она спасовала совсем, словно Герцен был
иностранный писатель, изъяснявшийся на неведомом ей языке. Все его словесные
фейерверки оказались впустую; она даже не заметила их.
Девушка окончила школу и благополучно училась в педагогическом вузе. Никто не
научил ее восхищаться искусством — радоваться Гоголю, Лермонтову, сделать своими
вечными спутниками Пушкина, Баратынского, Тютчева, и я пожалел ее, как жалеют
калеку.
Ведь человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой,
живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется
душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке и технике. При первом же знакомстве
с такими людьми я всегда замечаю их страшный изъян — убожество их психики, их
«тупосердие» (по выражению Герцена). Невозможно стать истинно культурным
человеком, не пережив эстетического восхищения искусством. У того, кто не пережил
этих возвышенных чувств, и лицо другое, и самый звук его голоса другой. Подлинно
культурного человека я всегда узнаю по эластичности и богатству его интонаций. А
человек с нищенски-бедной психической жизнью бубнит однообразно и нудно, как та
девушка, что читала мне «Невский проспект».
Но всегда ли школа обогащает литературой, поэзией, искусством духовную,
эмоциональную жизнь своих юных питомцев? Я знаю десятки школьников, для которых
литература — самый скучный, ненавистный предмет. Главное качество, которое
усваивают дети на уроках словесности, — скрытность, лицемерие, неискренность.
Школьников насильно принуждают любить тех писателей, к которым они равнодушны,
приучают их лукавить и фальшивить, скрывать свои настоящие мнения об авторах,
навязанных им школьной программой, и заявлять о своем пылком преклонении перед
теми из них, кто внушает им зевотную скуку.
Я уже не говорю о том, что вульгарно-социологический метод, давно отвергнутый нашей
наукой, все еще свирепствует в школе, и это отнимает у педагогов возможность внушить
школярам эмоциональное, живое отношение к искусству. Поэтому нынче, когда я
встречаю юнцов, которые уверяют меня, будто Тургенев жил в XVIII веке, а Лев Толстой
участвовал в Бородинском сражении, и смешивают старинного поэта Алексея Кольцова с
советским журналистом Михаилом Кольцовым, я считаю, что все это закономерно, что
иначе и быть не может. Все дело в отсутствии любви, в равнодушии, во внутреннем
сопротивлении школьников тем принудительным методам, при помощи которых их хотят
приобщить к гениальному (и негениальному) творчеству наших великих (и невеликих)
писателей.
Без энтузиазма, без жаркой любви все такие попытки обречены на провал.
Теперь много пишут в газетах о катастрофически плохой орфографии в сочинениях
нынешних школьников, которые немилосердно коверкают самые простые слова. Но
орфографию невозможно улучшить в отрыве от общей культуры. Орфография обычно
хромает у тех, кто духовно безграмотен, у кого недоразвитая и скудная психика.
Ликвидируйте эту безграмотность, и все остальное приложится.
Носов
Вот пишут: малая родина... Что же это такое? Где ее границы? Откуда и докуда она
простирается?
По-моему, малая родина — это окоем нашего детства. Иными словами, то, что способно
объять мальчишеское око. И что жаждет вместить в себя чистая, распахнутая душа. Где
эта душа впервые удивилась, обрадовалась и возликовала от нахлынувшего восторга. И
где впервые огорчилась, разгневалась или пережила свое первое потрясение.
Тихая деревенская улица, пахнущий пряниками и кожаной обувью тесный магазинчик,
машинный двор за околицей, куда заманчиво пробраться, тайком посидеть в кабине еще
не остывшего трактора, потрогать рычаги и кнопки, блаженно повздыхать запах
наработавшегося мотора; туманное таинство сбегающего под гору колхозного сада, в
сумерках которого предостерегающе постукивает деревянная колотушка, гремит тяжелой
цепью рыжий репьистый пес. За садом — змеистые зигзаги старых, почти изгладившихся
траншей, поросших терновником и лещиной, которые, однако, и поныне заставляют
примолкнуть, говорить вполголоса... И вдруг, снова воротясь к прежнему, шумно,
наперегонки умчаться в зовущий простор луга с блестками озерков и полузаросших
стариц, где, раздевшись донага и взбаламутив воду, майкой начерпать в этом черном
киселе чумазых карасей пополам с пиявками и плавунцами. И вот наконец речушка,
петлявая, увертливая, не терпящая открытых мест и норовящая улизнуть в лозняки, в
корявую и петлючую неразбериху. И если не жалеть рубах и штанов, то можно
продраться к старой мельнице с давно разбитой плотиной и обвалившейся кровлей, где
сквозь обветшалые мостки и в пустые проемы буйно бьет вольный кипрей. Здесь тоже не
принято говорить громко: 210 ходит молва, будто и теперь еще в омуте обретается
мельничный водяной, ветхий, обомшелый, и будто бы кто-то слыхал, как он кряхтел и
отдувался в кустах, тужась столкнуть в омут теперь уже никому не нужный жернов. Как
же не пробраться туда и не посмотреть, страшась и озираясь, лежит ли тот камень или уже
нет его... За рекой — соседняя деревня, и забредать за реку не полагается: это уже иной,
запредельный мир. Там обитают свои вихрастые окоемщики, на глаза которых
поодиночке лучше не попадаться... Вот, собственно, и вся мальчишеская вселенная. Но и
того невеликого обиталища хватает с лихвой, чтобы за день, пока не падет солнце,
набегаться, наоткрывать и на-впечатляться до того предела, когда уже за ужином
безвольно начнет клониться опаленная солнцем и вытрепанная ветром буйная молодецкая
головушка, и мать подхватывает и несет исцарапанное, пахнущее рогозом и
подмаренником, отрешенное, обмякшее чадо к постели, как с поля боя уносит павшего
сестра милосердия. И видится ему сон, будто взбирается он на самое высокое дерево, с
обмирающим сердцем добирается до вершинных ветвей, опасно и жутко раскачиваемых
ветром, чтобы посмотреть: а что же там дальше, где он еще не бывал? И вдруг что-то
ломко хрустит, и он с остановившимся дыханием кубарем рушится вниз. Но, как бывает
только во снах, в самый последний момент как-то так удачно расставляет руки, подобно
крыльям, ветер упруго подхватывает его, и вот уже летит, летит, плавно и завораживающе
набирая высоту и замирая от неописуемого восторга. Малая родина — это то, что на всю
жизнь одаривает нас крыльями вдохновения.
Астафьев
Амлинский
Вот люди, которые приходят ко мне, пишут мне поздравительные открытки, делают вид,
что я такой же, как и все, и что всё будет в порядке, или не делают вид, а просто тянутся
ко мне, может, верят в чудо, в моё выздоровление. Вот они. У них есть это самое
сострадание. Чужая болезнь их тоже малость точит – одних больше, других меньше. Но
немало таких, которые презирают чужую болезнь, они не решаются вслух сказать, а
думают: ну зачем он ещё живёт, зачем он ползает? Так во многих медицинских
учреждениях относятся к хроникам, так называемым хроническим больным.
Бедные здоровые люди, они не понимают, что весь покой и здоровье их условны, что одно
мгновение, одна беда – и всё перевернулось, и они сами уже вынуждены ждать помощи и
просить о сострадании. Не желаю я им этого.
Вот с такими я жил бок о бок несколько лет. Сейчас я вспоминаю об этом как о страшном
сне. Это были мои соседи по квартире. Мать, отец, дочки. Вроде бы люди как люди.
Работали исправно, семья у них была дружная, своих в обиду не дадут. И вообще всё как
полагается: ни пьянства, ни измен, здоровый быт, здоровые отношения и любовь к песне.
Как придут домой – радио на всю катушку, слушают музыку, последние известия,
обсуждают международные события. Аккуратные до удивления люди. Не любят, не
терпят беспорядка. Откуда взял, туда и положи! Вещи места знают. Полы натёрты, всё
блестит, свет в общественных местах погашен. Копейка рубль бережёт. А тут я. И у меня
костыли. И я не летаю, а тихо хожу. Ковыляю по паркету. А паркет от костылей – того,
портится… Тут и начался наш с ними духовный разлад, пропасть и непонимание. Сейчас
всё это шуточки, а была форменная война, холодная, со вспышками и нападениями.
Нужно было иметь железные нервы, чтобы под их враждебными взглядами ковылять в
ванную и там нагибать позвоночник, вытирать пол, потому что мокрый пол – это
нарушение норм общественного поведения, это атака на самые устои коммунальной
жизни.
И начиналось: если вы больные, так и живите отдельно! Что я могу ответить? Я бы и рад
отдельно, я прошу об этом, да не дают. Больным не место в нашей здоровой жизни. Так
решили эти люди и начали против меня осаду, эмбарго и блокаду. И хуже всего им было
то, что я не откликался, не лез в баталии, не давая им радости в словесной потасовке. Я
научился искусству молчания. Клянусь, мне иногда хотелось взять хороший новенький
автомат… Но это так, в кошмарных видениях. Автомат я бы не взял, даже если бы мы с
ними оказались на необитаемом острове, в отсутствии народных районных судов. К тому
времени я научился уже понимать цену жизни, даже их скверной жизни. Итак, я молчал. Я
пытался быть выше и от постоянных попыток таким и стал. А потом мне становилось
порой так плохо, что всё это уже не волновало меня. Меня не волновали их категории, я
мыслил другими, и только когда я откатывался от бездны, я вспоминал о своих
коммунальных врагах.
Всё больше доставлял я им хлопот, всё громче стучал своими костылями, всё труднее мне
становилось вытирать полы, не проливать воду, и всё нетерпимее становилась обстановка
в этой странной обители, соединившей самых разных, совершенно не нужных друг другу
людей.
И я в один прекрасный момент понял совершенно отчётливо, что может быть самое
главное мужество человека в том, чтобы преодолеть вот такую мелкую трясину,
выбраться из бытовых гнусностей, не поддаться соблазну мелочной расплаты, карликовой
войны, копеечного отчаяния.
Потому что мелочи такого рода с огромной силой разъедают множество людей, не
выработавших себе иммунитет к этому. И вот эти люди всерьёз лезут в дрязги, в
дурацкую борьбу, опустошаются, тратят нервы, уже не могут остановиться. Когда они
постареют, они поймут всю несущественность этой возни, но будет уже поздно, уже
слишком много сил отдано мышиной возне, так много зла скоплено внутри, так много
страстей потрачено, которые могли бы питать что-то важное, которые должны были
двигать человека вперёд.
Орлов
Толстой вошел в мою жизнь, не представившись. Мы с ним уже активно общались, а я все
еще не подозревал, с кем имею дело. Мне было лет одиннадцать-двенадцать, то есть через
год-другой после войны, когда маму на лето назначили директором пионерского лагеря. С
весны в нашу комнатушку, выходящую в бесконечный коммунальный коридор, стали
являться молодые люди того и другого пола - наниматься в пионервожатые и
физкультурники. По-нынешнему говоря, мама прямо на дому проводила кастинг. Но дело
не в этом. Дело в том, что однажды к нашему дому подвезли на грузовичке и горой
вывалили прямо на пол книги - основательно бывшие в употреблении, но весьма
разнообразные по тематике. Кто-то заранее побеспокоился, не без маминого, думаю
участия, чтобы в будущем пионерлагере была библиотека. "Ваше любимое занятие?..
Рыться в книгах" - это и про меня. Тогда тоже. Рылся. Пока в один счастливый момент не
выудил из этой горы потрепанный кирпичик: тонкая рисовая бумага, еры и яти, обложек
нет, первых страниц нет, последних нет. Автор - инкогнито. Глаз упал на начало, которое
не было началом, а дальше я оторваться от текста не смог. Я вошел в него, как в новый
дом, где почему-то все оказалось знакомым - никогда не был, а все узнал. Поразительно!
Казалось, неведомый автор давно подсматривал за мной, все обо мне узнал и теперь
рассказал - откровенно и по доброму, чуть ли не по родственному. Написано было: "... По
тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого и которое
служит путеводною мыслью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее
равнодушие..." Но сколько раз и со мной случалось, что и с неведомой Катенькой: в
разговоре инстинктивно угадывать "мысли другого"! Как точно... Или в другом месте:
"...Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он
понимает меня..." Опять лучше не скажешь! "Я понимаю, что он понимает..." И так на
каждой странице. "В молодости все силы души направлены на будущее... Одни понятные
и разделенные мечты о будущем счастии составляют уже истинное счастье этого
возраста". Опять мое! Так и есть: каждый день твоих детства-отрочества, если они
нормальны, будто сплавлен с солнцем и светом ожидания, чтобы твое предназначение
состоялось. Но как выразить вслух это снедающее тебя предчувствие, можно ли передать
его словами ? Пока ты мучим неодолимой немотой, этот автор-инкогнито все за тебя
успел рассказать. Но кто он был - неведомый автор? Чья такая волшебная книга оказалась
у меня в руках? Надо ли говорить, что ни в какую пионерскую библиотеку она не поехала
- с обглоданными своими началом и концом она осталась у меня лично. Позже я узнал ее
и в переплете: Л.Н.Толстой. "Детство", "Отрочество", "Юность". Вот так Толстой вошел в
мою жизнь, не представившись. Иллюзия узнавания - непременная особенность
классических текстов. Они - классики, потому что пишут для всех. Это верно. Но они еще
и потому вечные классики, что пишут для каждого. Это верно не менее. Юный простак, я
"купился" именно на последнее. Эксперимент был проведен чисто: автора скрыли. Магия
имени не довлела над восприятием текста. Текст сам отстоял свое величие. Толстовская
"диалектика души", первым отмеченная нелюбезным Набокову Чернышевским, как
шаровая молния в форточку, сияя, влетела в очередное неопознанное читательское
сердце.
Б. Васильев
От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с
классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография
поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края,
смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись; иногда мне кажется, что
расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не
успев повзрослеть, и черты их растворило время.
Мне почему-то и сейчас не хочется вспоминать, как мы убегали с уроков, курили в
котельной и устраивали толкотню в раздевалке, чтобы хоть на миг прикоснуться к той,
которую любили настолько тайно, что не признавались в этом самим себе. Я часами
смотрю на выцветшую фотографию, на уже расплывшиеся лица тех, кого нет на этой
земле: я хочу понять. Ведь никто же не хотел умирать, правда?
А мы и не знали, что за порогом нашего класса дежурила смерть. Мы были молоды, а
незнания молодости восполняются верой в собственное бессмертие. Но из всех
мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.
А еще мы с детства играли в то, чем жили сами. Классы соревновались не за отметки или
проценты, а за честь написать письмо папанинцам или именоваться «чкаловским», за
право побывать на открытии нового цеха завода или выделить делегацию для встречи
испанских детей.
И еще я помню, как горевал, что не смогу помочь челюскинцам, потому что мой самолет
совершил вынужденную посадку где-то в Якутии, гак и не долетев до ледового лагеря.
Самую настоящую посадку: я получил «плохо», не выучив стихотворения. Потом-то я его
выучил: «Да, были люди в наше время…» А дело заключалось в том, что на стене класса
висела огромная самодельная карта и каждый ученик имел свой собственный самолет.
Отличная оценка давала пятьсот километров, но я получил «плохо», и мой самолет был
снят с полета. И «плохо» было не просто в школьном журнале: плохо было мне самому и
немного — чуть-чуть! — челюскинцам, которых я так подвел.
Улыбнись мне, товарищ. Я забыл, как ты улыбался, извини. Я теперь намного старше
тебя, у меня масса дел, я оброс хлопотами. как корабль ракушками. По ночам я все чаще и
чаще слышу всхлипы собственного сердца: оно уморилось. Устало болеть.
Я стал седым, и мне порой уступают место в общественном транспорте. Уступают юноши
и девушки, очень похожие на вас, ребята. И тогда я думаю, что не дай им Бог повторить
вашу судьбу. А если это все же случится, то дай им Бог стать такими же.
Между вами, вчерашними, и ими, сегодняшними, лежит не просто поколение. Мы твердо
знали, что будет война, а они убеждены, что ее не будет. И это прекрасно: они свободнее
нас. Жаль только, что свобода эта порой оборачивается безмятежностью…
В девятом классе Валентина Андроновна предложила нам тему свободного сочинения
«Кем я хочу стать?». И все ребята написали, что они хотят стать командирами Красной
Армия. Даже Вовик Храмов пожелал быть танкистом, чем вызвал бурю восторга. Да, мы
искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой. Мы сами избирали ее, мечтая об
армии, авиации и флоте: мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда
не существовало.
В этом смысле мне повезло. Я догнал в росте своего отца уже в восьмом классе, а
поскольку он был кадровым командиром Красной Армии, то его старая форма перешла ко
мне. Гимнастерка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и буденовка из темно-
серого сукна. Я надел эти прекрасные вещи в один замечательный день и не снимал их
целых пятнадцать лет. Пока не демобилизовался. Форма тогда уже была иной, но
содержание ее не изменилось: она по-прежнему осталась одеждой моего поколения.
Самой красивой и самой модной.
Мне люто завидовали все ребята. И даже Искра Полякова.
— Конечно, она мне немного велика, — сказала Искра, примерив мою гимнастерку. — Но
до чего же в ней уютно. Особенно, если потуже затянуться ремнем.
Я часто вспоминаю эти слова, потому что в них — ощущение времени. Мы все
стремились затянуться потуже, точно каждое мгновение нас ожидал строй, точно от
одного нашего вида зависела готовность это
этого общего строя к боям и победам. Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а
личного подвига. Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он
медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным
пламенем, сполохи которого еще долго
светят грядущим поколениям.
Ю. Нагибин
В первые годы после революции академик архитектуры Щусев читал перед широкой,
преимущественно молодежной рабочей аудиторией лекции по эстетике. Их целью было
приобщить широкие массы, как тогда выражались, к пониманию красоты, наслаждению
искусством. На первой же лекции, прочитанной Щусевым с огромным воодушевлением,
талантом прирожденного популяризатора и, само собой разумеется, исчерпывающим
знанием предмета, поднялся какой-то парень с прилипшим к нижней губе окурком и
развязно сказал:
– Вот вы, товарищ профессор, все бубнили: красота, красота, а я так и не понял, чего такое
эта красота?
Кто-то засмеялся. Щусев внимательно поглядел на парня. Сутулый, длиннорукий,
мутноглаэый. И чего завалился на лекцию этот вовсе не безупречный шатун – погреться
или побузить? Его нисколько не интересовала суть вопроса, хотелось озадачить
распинающегося на кафедре «интеллихента» и выставиться перед окружающими. Его
надо крепко осадить ради общего дела. Щусев прищурился и спросил:
– Зеркало дома есть?
– Есть. Я перед ним броюсь.
– Нет, большое...
– Ага. В стенном шкапе.
– Щусев протянул парню фотографию, снятую с «Давида» Микеланджело, которую тот
машинально взял. – Вы сразу поймете, что такое красота и что такое безобразие.
Я привел этот случай не развлечения ради. В насмешливой выходке архитектора есть
рациональное зерно. Щусев предложил самый верный способ постигнуть красоту. Истина
и вообще познается в сравнении. Лишь вглядываясь в образы красоты, созданные
искусством, будь то Венера Милосская или Ника Самофракийская, мадонна Рафаэля или
мальчик Пинтуриккьо, Флора Тициана или автопортрет Ван Дейка, царевна-лебедь
Врубеля или три богатыря Васнецова, крестьянская девушка Аргунова, кружевница
Тропинина, дочь Нестерова или бегущие спортсменки Дейнеки, можно приучить свой
глаз и душу к той радости, которую дает встреча с прекрасным. Этой цели служат музеи,
выставки, репродукции, книги по искусству.
Как хорошо сказал великий педагог К. Ушинский: «Всякое искреннее наслаждение
изящным само по себе источник нравственной красоты». Вдумайся в эти слова, читатель!..
Глушко
На перроне было холодно, опять сыпалась крупка, она прошлась притопывая, подышала
на руки.
Кончались продукты, ей хотелось хоть чего-нибудь купить, но на станции ничего не
продавали. Она решилась добраться до вокзала. Вокзал был забит людьми, сидели на
чемоданах, узлах и просто на полу, разложив снедь, завтракали.
Она вышла на привокзальную площадь, густо усеянную пестрыми пятнами пальто, шубок,
узлов; здесь тоже сидели и лежали люди целыми семьями, некоторым посчастливилось
занять скамейки, другие устроились прямо на асфальте, расстелив одеяло, плащи, газеты...
В этой гуще людей, в этой безнадежности она почувствовала себя почти счастливой — все
же я еду, знаю куда и к кому, а всех этих людей война гонит в неизвестное, и сколько им
тут еще сидеть, они и сами не знают.
Вдруг закричала старая женщина, ее обокрали, возле нее стояли двое мальчиков и тоже
плакали, милиционер что-то сердито говорил ей, держал за руку, а она вырывалась и
кричала. Есть такой простой обычай — с шапкой по кругу, А тут рядом сотни и сотни
людей, если бы каждый дал хотя бы по рублю... Но все вокруг сочувственно смотрели на
кричащую женщину и никто не сдвинулся с места.
Нина позвала мальчика постарше, порылась в сумочке, вытащила сотенную бумажку,
сунула ему в руку:
— Отдай бабушке... — И быстро пошла, чтобы не видеть его заплаканного лица и
костлявого кулачка, зажавшего деньги. У нее еще оставалось из тех денег, что дал отец,
пятьсот рублей — ничего, хватит.
У какой-то женщины из местных она спросила, далеко ли базар. Оказалось, если ехать
трамваем, одна остановка, но Нина не стала ждать трамвая, она соскучилась по движению,
по ходьбе, пошла пешком.
Рынок был совсем пустой, и только под навесом стояли три толсто одетые тетки,
притопывая ногами в валенках, перед одной возвышалось эмалированное ведро с
мочеными яблоками, другая торговала картошкой, разложенной кучками, третья
продавала семечки.
Она купила два стакана семечек и десяток яблок. Нина тут же, у прилавка, с жадностью
съела одно, чувствуя, как блаженно заполняется рот остро-сладким соком.
Вдруг услышала перестук колес и испугалась, что это уводит ее поезд, прибавила шагу, но
еще издали увидела, что ее поезд на месте.
Той старухи с детьми на привокзальной площади уже не было, наверно, ее куда-то отвели,
в какое-нибудь учреждение, где помогут — ей хотелось так думать, так было спокойнее:
верить в незыблемую справедливость мира.
Она бродила по перрону, щелкая семечки, собирая шелуху в кулак, обошла обшарпанное
одноэтажное здание вокзала, его стены были оклеены бумажками-объявлениями,
писанными разными почерками, разными чернилами, чаще — химическим карандашом,
приклеенными хлебным мякишем, клеем, смолой и еще бог знает чем. «Разыскиваю
семью Клименковых из Витебска, знающих прошу сообщить по адресу...» «Кто знает
местопребывание моего отца Сергеева Николая Сергеевича, прошу известить...» Десятки
бумажек, а сверху — прямо, по стене углем: «Валя, мамы в Пензе нет, еду дальше. Лида».
Все это было знакомо и привычно, на каждой станции Нина читала такие объявления,
похожие на крики отчаяния, но всякий раз сердце сжималось от боли и жалости, особенно
тогда, когда читала о потерянных детях.
Читая такие объявления, она представляла себе колесящих по стране, идущих пешком,
мечущихся по городам, скитающихся по дорогам людей, разыскивающих близких, —
родную каплю в человеческом океане, — и думала, что не только смертями страшна
война, она страшна и разлуками!
Сейчас Нина вспоминала всех, с кем разлучила ее война: отца, Виктора, Марусю,
мальчишек с ее курса... Неужели это не во сне — забитые вокзалы, плачущие женщины,
пустые базары, и я куда-то еду... В незнакомый, чужой. Зачем? Зачем?
В. Круглый
Все-таки время – удивительная категория. Я стал заново открывать мир литературы и
вдруг осознал, что чтение перестало вызывать необычайную, ни с чем не сравнимую
радость, как это бывало раньше.
Скажем, в шестидесятые-семидесятые, по крайней мере, по моим воспоминаниям, чтение
и для меня, и для окружающих было не просто ежедневной потребностью: взяв в руки
книгу, я испытывал неповторимое чувство радости. Подобного ощущения мне не
доводилось переживать уже давно. К сожалению, и моим детям тоже, хотя они умные,
развитые и читающие, что нынче редкость.
А виновато в этом, конечно, время. Изменившиеся условия жизни, большие объемы
информации, которую необходимо осваивать, и желание облегчить ее восприятие через
видеоформат приводят к тому, что мы перестали получать наслаждение от чтения.
Я понимаю, что уже никогда, вероятно, не вернется энтузиазм семидесятых или
восьмидесятых, когда мы следили за появлением книг, охотились за ними, порой в
Москву специально ездили, чтобы где-то выменять или купить дефицитное издание.
Тогда книги являли собой подлинное богатство – и не только в материальном смысле.
Однако стоило мне укрепиться в своем разочаровании, как жизнь преподнесла
неожиданный сюрприз. Правда, произошло это после прискорбного и тягостного события.
После ухода из жизни моего отца в наследство мне досталась большая и содержательная
библиотека. Начав ее разбирать, именно среди книг конца XIX – начала XX столетий я
смог найти то, что захватило меня с головой и вернуло пусть и не ту детскую радость, но
настоящее удовольствие от чтения.
Разбирая книги, я начал перелистывать их, углубляясь то в одну, то в другую, и вскоре
понял, что читаю их взахлеб. Все выходные, а также долгие часы в дороге, в поездах и
самолетах, я с упоением провожу с очерками об известных русских художниках – Репине,
Бенуа или Добужинском.
О последнем художнике, надо признаться, я знал очень мало. Книга Эриха Голлербаха
«Рисунки Добужинского» открыла для меня этого замечательного человека и
превосходного художника. Изумительное издание 1923 года совершенно очаровало меня,
в первую очередь – репродукциями работ Добужинского, аккуратно укрытыми
папиросной бумагой.
К тому же книга Голлербаха написана очень хорошим языком, читается легко и
увлекательно – как художественная проза. Рассказывая о том, как с самых юных лет
формировалось дарование Добужинского, автор раскрывает читателю секреты художника.
Книга искусствоведа и критика Эриха Голлербаха предназначалась широкому читателю, и
в этом ее сила. А как приятно держать ее в руках! Прекрасное оформление, тонкий запах
бумаги, ощущение, что прикасаешься к старинному фолианту, – все это порождает
настоящий читательский восторг.
Но отчего именно книги конца ХIХ – начала ХХ столетий стали для меня глотком свежего
воздуха? И сам не знаю доподлинно; осознаю только, что атмосфера того времени словно
поглотила меня, захватила в плен.
Возможно, это была попытка уйти от современной действительности в мир истории. Или,
напротив, желание найти «точки пересечения»: переходные периоды, годы поиска новых
форм и смыслов, как известно, повторяют друг друга, а значит, изучая рубеж XIX и XX
веков по художественной литературе, документам или публицистике, можно набраться
опыта или подсмотреть готовые решения для сегодняшнего дня.
Благодаря причудливой игре времени источником читательского вдохновения для меня
оказались книги «серебряного века» нашей культуры; для кого-то другого таким
источником, возможно, станут старинные фолианты или рукописи начинающих
писателей. Главное – не дать окрепнуть разочарованию и продолжить искать: книга,
которая подарит удовольствие, обязательно найдется.
Вересаев
Усталый, с накипавшим в душе глухим раздражением, я присел на скамейку. Вдруг где-то
недалеко за мною раздались звуки настраиваемой скрипки. Я с удивлением оглянулся: за
кустами акаций белел зад небольшого флигеля, и звуки неслись из его раскрытых
настежь, неосвещенных окон. Значит, молодой Ярцев дома... Музыкант стал играть. Я
поднялся, чтобы уйти; грубым оскорблением окружающему казались мне эти
искусственные человеческие звуки.
Я медленно подвигался вперед, осторожно ступая по траве, чтоб не хрустнул сучок, а
Ярцев играл...
Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импровизация. Но что это была за
импровизация! Прошло пять минут, десять, а я стоял, не шевелясь, и жадно слушал.
Звуки лились робко, неуверенно. Они словно искали чего-то, словно силились выразить
что-то, что выразить были не в силах. Не самою мелодией они приковывали к себе
внимание — ее, в строгом смысле, даже и не было, — а именно этим исканием, томлением
по чему-то другому, что невольно ждалось впереди. — Сейчас уж будет настоящее —
думалось мне. А звуки лились все так же неуверенно и сдержанно. Изредка мелькнет в
них что-то — не мелодия, лишь обрывок, намек на мелодию, — но до того чудную, что
сердце замирало. Вот-вот, казалось, схвачена будет тема, — и робкие ищущие звуки
разольются божественно спокойною, торжественною, неземною песнью. Но проходила
минута, и струны начинали звенеть сдерживаемыми рыданиями: намек остался
непонятным, великая мысль, мелькнувшая на мгновенье, исчезла безвозвратно.
Что это? Неужели нашелся кто-то, кто переживал теперь то же самое, что я? Сомнения
быть не могло: перед ним эта ночь стояла такою же мучительною и неразрешимою
загадкой, как передо мною.
Вдруг раздался резкий, нетерпеливый аккорд, за ним другой, третий, — и бешеные звуки,
перебивая друг друга, бурно полились из-под смычка. Как будто кто-то скованный
яростно рванулся, стараясь разорвать цепи. Это было что-то совсем новое и неожиданное.
Однако чувствовалось, что нечто подобное и было нужно, что при прежнем нельзя было
оставаться, потому что оно слишком измучило своей бесплодностью и безнадежностью...
Теперь не слышно было тихих слез, не слышно было отчаяния; силою и дерзким вызовом
звучала каждая нота. И что-то продолжало отчаянно бороться, и невозможное начинало
казаться возможным; казалось, еще одно усилие — и крепкие цепи разлетятся вдребезги и
начнется какая-то великая, неравная борьба. Такою повеяло молодостью, такою верою в
себя и отвагою, что за исход борьбы не было страшно. «Пускай нет надежды, мы и самую
надежду отвоюем!» — казалось, говорили эти могучие звуки.
Я задерживал дыхание и в восторге слушал. Ночь молчала и тоже прислушивалась, —
чутко, удивленно прислушивалась к этому вихрю чуждых ей, страстных, негодующих
звуков. Побледневшие звезды мигали реже и неувереннее; густой туман над прудом стоял
неподвижно; березы замерли, поникнув плакучими ветвями, и все вокруг замерло и
притихло. Над всем властно царили несшиеся из флигеля звуки маленького, слабого
инструмента, и эти звуки, казалось, гремели над землею, как раскаты грома.
С новым и странным чувством я огляделся вокруг. Та же ночь стояла передо мною в своей
прежней загадочной красоте. Но я смотрел на нее другими глазами: все окружающее было
для меня теперь лишь прекрасным беззвучным аккомпанементом к тем боровшимся,
страдавшим звукам.
Теперь все было осмысленно, все было полно глубокой, дух захватывающей, но родной,
понятной сердцу красоты. И эта человеческая красота затмила, заслонила собою, не
уничтожая ту красоту, по-прежнему далекую, по-прежнему непонятную и недоступную.
В первый раз я воротился в такую ночь домой счастливым и удовлетворенным.
А. Соболев
В наше время чтение художественной литературы, по сути, – привилегия. Слишком много
времени отнимает этот род занятий. Недосуг. Да и чтение – это тоже работа, и в первую
очередь – над собой. Пусть незаметная, не столь обременительная, но у человека,
потратившего день на решение проблем, требующих интеллектуальной и душевной
отдачи, порой просто не остается сил поинтересоваться новинками литературы. Это
никого не оправдывает, но причины очевидны, а стойкую привычку к серьезному чтению
выработали не все.
Для большей части взрослых и пожилых людей в наши дни телевидение и кино заменяют
чтение, они если и знакомятся с новинками книжного рынка, то за редким исключением в
примитивном киноизложении.
Молодежь же все чаще познает мир слова через наушники плееров и интернет-ресурсы, на
смартфонах и планшетах, которые всегда под рукой.
Возможно, я сгущаю краски и кто-то сумеет нарисовать более оптимистичную картину,
но мне кажется необходимым учитывать реалии времени.
Себя отношу к той категории людей, что заняты делом. Но мой пример не типичен.
Умудряюсь читать и даже писать. Написал 4-ый сборник стихов. Не останавливаюсь на
этом, папки рукописей и черновиков пополняются, хотя перелеты, поездки и ночные
бдения – вот весь писательский ресурс, который у меня остается. С чтением еще сложнее,
паузы выпадают редко.
Если попытаться охарактеризовать недавно прочитанное, то первое, что приходит на ум:
это написали ЛИЧНОСТИ! Люди, сделавшие себя сами. Им веришь. Сама история их
жизни не позволяет усомниться в выводах и формулировках. А ведь это очень важно –
верить автору, что бы мы ни читали – научную литературу, роман или мемуары.
Знаменитое «Не верю!» Станиславского проникает сейчас во все жанры и виды искусства.
И если в кино динамика кадра и лихость сюжета могут отвлечь внимание зрителя от
нестыковок и откровенной фальши, то печатное слово сразу выталкивает на поверхность
всякое вранье, все, что написано ради красного словца, высосано из пальца. Воистину –
писаное пером не вырубишь топором.
Проверяя читательский багаж прошлых лет, прихожу к выводу, что я всегда неосознанно
тянулся к авторам, не только отмеченным писательским талантом, но и обладавшим
выдающейся личной историей. Биографией, как тогда говорили. В советское время о
личной жизни популярных авторов была дозированной, а порой и недоступной, о пиаре
тогда никто и не догадывался. Но крупицы их дел и поступков были у всех на слуху,
оживляли образ и увеличивали наши симпатии и степень доверия. Так было с
Маяковским, так было с Высоцким, Визбором, Солженицыным и Шаламовым. И многими
другими, чьи тексты мы разбирали на цитаты, чьи книги становились самыми
убедительными аргументами в спорах.
Не знаю, что является критерием настоящей литературы, для меня главным мерилом был
и остается результат – чтобы тебе поверили.
В наше время чтение художественной литературы, по сути, – привилегия. . Слишком
много времени отнимает этот род занятий. Недосуг. Да и чтение – это тоже работа, и в
первую очередь – над собой. Пусть незаметная, не столь обременительная, но у человека,
потратившего день на решение проблем, требующих интеллектуальной и душевной
отдачи, порой просто не остается сил поинтересоваться новинками литературы. Это
никого не оправдывает, но причины очевидны, а стойкую привычку к серьезному чтению
выработали не все. Увы.
Для большей части взрослых и пожилых людей в наши дни телевидение и кино заменяют
чтение, они если и знакомятся с новинками книжного рынка, то за редким исключением в
примитивном киноизложении.
Молодежь же все чаще познает мир слова через наушники плееров и интернет-ресурсы, на
смартфонах и планшетах, которые всегда под рукой.
Ф. Сологуб
Вечером опять сошлись у Старкиных. Говорили только о войне. Кто-то пустил слух, что
призыв новобранцев в этом году будет раньше обыкновенного, к восемнадцатому августу;
и что отсрочки студентам будут отменены. Поэтому Бубенчиков и Козовалов были
угнетены, — если это верно, то им придется отбывать воинскую повинность не через два
года, а нынче.
Воевать молодым людям не хотелось, — Бубенчиков слишком любил свою молодую и,
казалось ему, ценную и прекрасную жизнь, а Козовалов не любил, чтобы что бы то ни
было вокруг него становилось слишком серьезным.
Козовалов говорил уныло:
— Я уеду в Африку. Там не будет войны.
— А я во Францию, — говорил Бубенчиков, — и перейду во французское подданство.
Лиза досадливо вспыхнула. Закричала:
— И вам не стыдно! Вы должны защищать нас, а думаете сами, где спрятаться. И вы
думаете, что во Франции вас не заставят воевать?
Из Орго призвали шестнадцать запасных. Был призван и ухаживающий за Лизою эстонец,
Пауль Сепп. Когда Лиза узнала об этом, ей вдруг стало как-то неловко, почти стыдно того,
что она посмеивалась над ним. Ей вспомнились его ясные, детски-чистые глаза. Она вдруг
ясно представила себе далекое поле битвы, — и он, большой, сильный, упадет, сраженный
вражескою пулею. Бережная, жалостливая нежность к этому, уходящему, поднялась в ее
душе. С боязливым удивлением она думала: «Он меня любит. А я, — что же я? Прыгала,
как обезьянка, и смеялась. Он пойдет сражаться. Может быть, умрет. И, когда будет ему
тяжело, кого он вспомнит, кому шепнет: "Прощай, милая"? Вспомнит русскую барышню,
чужую, далекую».
Призванных провожали торжественно. Собралась вся деревня. Говорили речи. Играл
местный любительский оркестр. И дачники почти все пришли. Дачницы принарядились.
Пауль шел впереди и пел. Глаза его блестели, лицо казалось солнечно-светлым, — он
держал шляпу в руке, — и легкий ветерок развевал его светлые кудри. Его обычная
мешковатость исчезла, и он казался очень красивым. Так выходили некогда в поход
викинги и ушкуйники. Он пел. Эстонцы с одушевлением повторяли слова народного
гимна.
Дошли до леска за деревнею. Лиза остановила Сеппа:
— Послушайте, Пауль, подойдите ко мне на минутку.
Пауль отошел на боковую тропинку. Он шел рядом с Лизою. Походка его была
решительная и твердая, и глаза смело глядели вперед. Казалось, что в душе его ритмично
бились торжественные звуки воинственной музыки. Лиза смотрела на него влюбленными
глазами. Он сказал:
— Ничего не бойтесь, Лиза. Пока мы живы, мы немцев далеко не пустим. А кто войдет в
Россию, тот не обрадуется нашему приему. Чем больше их войдет, тем меньше их
вернется в Германию.
Вдруг Лиза очень покраснела и сказала:
— Пауль, в эти дни я вас полюбила. Я поеду за вами. Меня возьмут в сестры милосердия.
При первой возможности мы повенчаемся.
Пауль вспыхнул. Он наклонился, поцеловал Лизину руку и повторял:
— Милая, милая!
И когда он опять посмотрел в ее лицо, его ясные глаза были влажны.
Анна Сергеевна шла на несколько шагов сзади и роптала:
— Какие нежности с эстонцем! Он Бог знает что о себе вообразит. Можете представить,
— целует руку, точно рыцарь своей даме!
Лиза обернулась к матери и крикнула:
— Мама, поди сюда!
Она и Пауль Сепп остановились у края дороги. У обоих были счастливые, сияющие лица.
Вмести с Анною Сергеевною подошли Козовалов и Бубенчиков. Козовалов сказал на ухо
Анне Сергеевне:
— А нашему эстонцу очень к лицу воинственное воодушевление. Смотрите, какой
красавец, точно рыцарь Парсифаль.
Анна Сергеевна с досадою проворчала:
— Ну уж красавец! Ну что, Лизонька? — спросила она удочери.
Лиза сказала, радостно улыбаясь:
— Вот мой жених, мамочка.
Анна Сергеевна в ужасе перекрестилась. Воскликнула:
— Лиза, побойся Бога! Что ты говоришь!
Лиза говорила с гордостью:
— Он — защитник отечества.
Грашин?
Я живу в Пятнадцатой линии на Среднем проспекте и четыре раза в день прохожу по
набережной, где пристают иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту,
оживление, толкотню и шум и за то, что оно дало мне много материала. Здесь, смотря на
поденщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой
кладью, я научился рисовать трудящегося человека.
Я шел домой с Дедовым, пейзажистом... Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек и
страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений; пишет,
что видит: увидит реку - и пишет реку, увидит болото с осокою - и пишет болото с
осокою. Зачем ему эта река и это болото? - он никогда не задумывается. Он, кажется,
образованный человек; по крайней мере кончил курс инженером. Службу бросил, благо
явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он
пишет и пишет: летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами, зимой без
устали компонует закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и прочее.
Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани,
он часто объясняет мне значение огромных чугунных и стальных масс: частей машин,
котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег.
- Посмотрите, какой котлище притащили, - сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий
котел.
- Неужели у нас не умеют их делать? - спросил я.
- Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли. И скверная работа;
придется здесь чинить: видите, шов расходится? Вот тут тоже заклепки расшатались.
Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в
котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а
снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку.
Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущий по шву котла.
- Дедов, ведь это все равно, что по груди бить!
- Все равно. Я раз попробовал было забраться в котел, так после четырех заклепок еле
выбрался. Совсем разбило грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они,
как мухи: год-два вынесет, а потом если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка
целый день выносить грудью удары здоровенного молота, да еще в котле, в духоте,
согнувшись в три погибели. Зимой железо мерзнет, холод, а он сидит или лежит на
железе. Вон в том котле - видите, красный, узкий - так и сидеть нельзя: лежи на боку да
подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям.
- Глухарям?
- Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете,
много они получают за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тут ни навыка, ни
искусства не требуется, а только мясо... Сколько тяжелых впечатлений на всех этих
заводах, Рябинин, если бы вы знали! Я так рад, что разделался с ними навсегда. Просто
жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания... То ли дело с природою. Она не
обижает, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники...
Поглядите-ка, поглядите, каков сероватый тон! - вдруг перебил он сам себя, показывая на
уголок неба: - пониже, вон там, под облачком... прелесть! С зеленоватым оттенком. Ведь
вот напиши так, ну точно так - не поверят! А ведь недурно, а?
Я выразил свое одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-
зеленом клочке петербургского неба, и перебил Дедова, начавшего восхищаться еще
каким-то "тонком" около другого облачка.
- Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря?
- Поедемте вместе на завод; я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра! Да уж
не вздумалось ли вам писать этого глухаря? Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего
повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра.
Сегодня мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в
комок, в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него
полчаса; в эти полчаса
Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил
его на металлический завод; мы провели там целый день, осмотрели все, причем я
объяснял ему всякие производства (к удивлению моему, я забыл очень немногое из своей
профессии); наконец я привел его в котельное отделение. Там в это время работали над
огромнейшим котлом. Рябинин влез в котел и полчаса смотрел, как работник держит
заклепки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный; всю дорогу назад молчал. А
сегодня объявляет мне, что уже начал писать этого рабочего-глухаря. Что за идея! Что за
поэзия в грязи! Здесь я могу сказать, никого и ничего не стесняясь, то, чего, конечно, не
сказал бы при всех: по-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве - чистое уродство.
Кому нужны эти пресловутые репинские "Бурлаки"? Написаны они прекрасно, нет спора;
но ведь и только.
Где здесь красота, гармония, изящное? А не для воспроизведения ли изящного в природе
и существует искусство? То ли дело у меня! Еще несколько дней работы, и будет кончено
мое тихое "Майское утро". Чуть колышется вода в пруде, ивы склонили на него свои
ветви; восток загорается; мелкие перистые облачка окрасились в розовый цвет. Женская
фигурка идет с крутого берега с ведром за водой, спугивая стаю уток. Вот и все; кажется,
просто, а между тем я ясно чувствую, что поэзии в картине вышло пропасть. Вот это -
искусство! Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. А
рябининский "Глухарь" ни на кого не подействует уже потому, что всякий постарается
поскорей убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими безобразными
тряпками и этой грязной рожей. Странное дело! Ведь вот в музыке не допускаются
режущие ухо, неприятные созвучия; отчего ж у нас, в живописи, можно воспроизводить
положительно безобразные, отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Л., он
напишет статейку и кстати прокатит Рябинина за его картину. И стоит.
Солоухин
(1) С детства, со школьной скамьи человек привыкает к сочетанию слов: «любовь к
родине». (2) Осознает он эту любовь гораздо позже, а разобраться в сложном чувстве
любви к родине — то есть что именно и за что он любит – дано уже в зрелом возрасте.
(3) Чувство это действительно сложное.(4) Тут и родная культура, и родная история, все
прошлое и все будущее народа, все, что народ успел совершить на протяжении своей
истории и что ему совершить еще предстоит.
(5) Не вдаваясь в глубокие рассуждения, мы можем сказать, что на одном из первых мест
в сложном чувстве любви к родине находится любовь к родной природе.
(6)Для человека, родившегося в горах, ничего не может быть милее скал и горных
потоков, белоснежных вершин и крутых склонов.(7) Казалось бы, что любить в тундре?
(8)Однообразная заболоченная земля с бесчисленными стеклышками озер, поросшая
лишайниками, однако ненец-оленевод не променяет своей тундры ни на какие там южные
красоты.
(9)Одним словом, кому мила степь, кому – горы, кому – морское, пропахшее рыбой
побережье, а кому – родная среднерусская природа, тихие красавицы реки с желтыми
кувшинками и белыми лилиями, доброе, тихое солнышко Рязани... (10)И чтобы
жаворонок пел над полем ржи, и чтобы скворечник на березе перед крыльцом.
(11)Было бы бессмысленно перечислять все приметы русской природы.(12) Но из тысяч
примет и признаков складывается то общее, что мы зовем нашей родной природой и что
мы, любя, быть может, и море и горы, любим все же сильнее, чем что-либо иное в целом
свете.
(13)Все это так.(14) Но нужно сказать, что это чувство любви к родной природе в нас не
стихийно, оно не только возникло само собой, поскольку мы родились и выросли среди
природы, но воспитано в нас литературой, живописью, музыкой, теми великими
учителями нашими, которые жили прежде нас, тоже любили родную землю и передали
свою любовь нам, потомкам.
С детства, со школьной скамьи человек привыкает к сочетанию слов: "любовь к родине".
Осознает он эту любовь гораздо позже, а разобраться в сложном чувстве любви к родине -
то есть что именно и за что он любит дано уже в зрелом возрасте.
Чувство это действительно сложное. Тут и родная культура, и родная история, все
прошлое и все будущее народа, все, что народ успел совершить на протяжении своей
истории и что ему совершить еще предстоит.
Не вдаваясь в глубокие рассуждения, мы можем сказать, что на одном из первых мест в
сложном чувстве любви к родине находится любовь к родной природе.
Для человека, родившегося в горах, ничего не может быть милее скал и горных потоков,
белоснежных вершин и крутых склонов. Казалось бы, что любить в тундре? Однообразная
заболоченная земля с бесчисленными стеклышками озер, поросшая лишайниками, однако
ненец-оленевод не променяет своей тундры ни на какие там южные красоты.
Одним словом, кому мила степь, кому - горы, кому - морское, пропахшее рыбой
побережье, а кому - родная среднерусская природа, тихие красавицы реки с желтыми
кувшинками и белыми лилиями, доброе, тихое солнышко Рязани... И чтобы жаворонок
пел над полем ржи, и чтобы скворечник на березе перед крыльцом.
Было бы бессмысленно перечислять все приметы русской природы. Но из тысяч примет и
признаков складывается то общее, что мы зовем нашей родной природой и что мы, любя,
быть может, и море и горы, любим все же сильнее, чем что-либо иное в целом свете.
Все это так. Но нужно сказать, что это чувство любви к родной природе в нас не
стихийно, оно не только возникло само собой, поскольку мы родились и выросли среди
природы, но воспитано в нас литературой, живописью, музыкой, теми великими
учителями нашими, которые жили прежде нас, тоже любили родную землю и передали
свою любовь нам, потомкам.
Разве не помним мы с детства наизусть лучшие строки о природе Пушкина, Лермонтова,
Некрасова, Алексея Толстого, Тютчева, Фета? Разве оставляют нас равнодушными, разве
не учат ничему описания природы у Тургенева, Аксакова, Льва Толстого, Пришвина,
Леонова, Паустовского?.. А живопись? Шишкин и Левитан, Поленов и Саврасов,
Нестеров и Пластов - разве они не учили и не учат нас любить родную природу? В ряду
этих славных учителей занимает достойное место имя замечательного русского писателя
Ивана Сергеевича Соколова-Микитова.
Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился в 1892 году на земле Смоленской, и детство
его прошло среди самой что ни на есть русской природы. В то время живы были еще
народные обычаи, обряды, праздники, быт и уклад старинной жизни. Незадолго до смерти
Иван Сергеевич так писал о том времени и о том мире:
"В коренной крестьянской России начиналась моя жизнь. Эта Россия была моей
настоящей родиной. Я слушал крестьянские песни, смотрел, как пекут хлеб в русской
печи, запоминал деревенские, крытые соломой избы, баб и мужиков... Помню веселые
святки, масленицу, деревенские свадьбы, ярмарки, хороводы, деревенских приятелей,
ребят, наши веселые игры, катанье с гор... Вспоминаю веселый сенокос, деревенское поле,
засеянное рожью, узкие нивы, синие васильки по межам... Помню, как, переодевшись в
праздничные сарафаны, бабы и девки выходили зажинать поспевшую рожь, цветными
яркими пятнами рассыпались по золотому чистому полю, как праздновали зажинки.
Первый сноп доверяли сжать самой красивой трудолюбивой бабе - хорошей, умной
хозяйке... Это был тот мир, в котором я родился и жил, это была Россия, которую знал
Пушкин, знал Толстой".
Воронский
Русский язык - еще материалы к урокам:
- Конспект урока "Наклонение глагола. Сослагательное (условное) наклонение" 5 класс
- Презентация "Повторение и обобщение изученного о причастии и деепричастии"
- Презентация "Пунктуация. Культура речи"
- Презентация "Турнир знатоков русского языка"
- Внеклассное мероприятие "Турнир знатоков русского языка" 6-10 класс
- Конспект урока "Предложение как единица синтаксиса" 11 класс