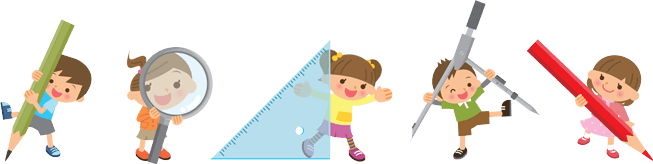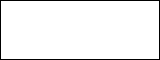Готовые сочинения 36 типовых вариантов ЕГЭ-2020
Вариант 1
— В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется, — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая
перчатки. — Рассказывал много интересного... Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о
медицинском пункте в Малозёмове, но, говорит, мало надежды. — И, обратясь ко мне, она сказала: —
Извините, я всё забываю, что для вас это не может быть интересно.
Я почувствовал раздражение.
— Почему же не интересно? — спросил я и пожал плечами. — Вам не угодно знать моё мнение, но
уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.
— Да?
— Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.
Моё раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила:
— Что же нужно? Пейзажи?
— И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.
Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту
она сказала тихо, очевидно сдерживая себя:
— На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она
осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот
счёт.
— Я имею на этот счёт очень определённое убеждение, уверяю вас, — ответил я, а она закрылась от
меня газетой, как бы не желая слушать. — По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки
при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите
этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам моё убеждение.
Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную
мысль:
Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до
потёмок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю
жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блёкнут, рано старятся и умирают в грязи и в
вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже
животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им
некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своём образе и подобии; голод, холод, животный страх,
масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому
самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить.
Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а,
напротив, ещё больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число
их потребностей, не говоря уже о том, что за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть
спину.
— Я спорить с вами не стану, — сказала Лида, опуская газету. — Я уже это слышала. Скажу вам только
одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся,
но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это
служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.
— Правда, Лида, правда, — сказала мать.
В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на неё, боясь сказать что-
нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: «Правда, Лида,
правда».
— Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не
могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого
громадного сада, — сказал я. — Вы не даёте ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаёте
лишь новые потребности, новый повод к труду.
— Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! — сказала Лида с досадой, и по её тону было
заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.
(По А. П. Чехову*)
(1860-1904) — русский писатель, прозаик, драматург.
* Антон Павлович Чехов
Вариант 2
Юрий Васильевич Бондарев
Кружила январская метелица, скрипели мёрзлые тополя в переулке, верховой ветер гремел железом, то и
дело срывал снежную пыль с карнизов, нёс её вдоль побелённых заборов, над свежими сугробами, а оно, это
единственное в ночи окно, светилось зелёным уютным пятном и, всегда одинаково яркое, тёплое,
занавешенное, притягивало к себе, вызывало приятное ощущение неразгаданной тайны.
Неизменно каждый вечер меня встречал в переулке этот домашний маячок в деревянном домике,
загороженный занавеской огонёк настольной лампы, — и я представлял натопленную комнату, стеллажи,
заставленные книгами по всем стенам, потёртый коврик на полу перед диваном, письменный стол,
стеклянный абажур лампы, распространяющий оранжевый круг в полумраке, и кого-то, мило сутуловатого,
в старческих добрых морщинах, кто одиноко жил там, окружённый благословенным раем книг, листал их
ласкающими пальцами, ходил по комнате шаркающей походкой, думал, работал до глубокой ночи за
письменным столом, ничего не требуя от мира, от суетных его удовольствий. Но кто же он был — учёный,
писатель? Кто?
Раз прошлой весной (в набухшей сыростью мартовской ночи всюду капало, тоненько звенели расколотые
сосульки, фиолетовыми стёклышками отливали под месяцем незамёрзшие лужицы на мостовой) я глядел на
знакомое окно, на ту же зеленовато-тёплую, освещённую изнутри занавеску, испытывая необоримое
чувство. Мне хотелось подойти, постучать в стекло, увидеть колыхание отодвинутой занавески и его
знакомое в моём воображении лицо, иссечённое сеточкой морщин вокруг прищуренных глаз, увидеть стол,
заваленный листами бумаги, внутренность комнатки, заполненной книгами, коврик на полу... Мне хотелось
сказать, что я, наверное, ошибся номером дома, никак не найду нужную мне квартиру — примитивно
солгать, чтобы хоть мельком заглянуть в пленительный этот воздух чистоплотного его жилья и работы в
окружении книг — казалось, единственных его друзей.
Но я не решился, не постучал. И позднее не мог простить себе этого.
Нет, спустя два месяца ничего не изменилось, всё было по-прежнему, а в тихоньком переулке была весна,
майский вечер медленно темнел в глубине замоскворецких двориков; среди свежей молодой зелени
зажигались фонари над заборами, майский жук с гудением потянул из дворика, ударился о стекло фонарного
колпака, упал на тротуар, замер, потом задвигал ошеломлённо лапками, пытаясь перевернуться. Тогда я
помог ему, сказав зачем-то: «Что ж ты?..» Он пополз по тротуару к стене дома, к водосточной трубе (она
была в трёх шагах от окна), а я почувствовал какое-то внезапное неудобство, глянувшее на меня из майских
сумерек.
Окно в домике не горело. Оно было как провал...
Что случилось?
Я дошёл до конца переулка, постоял на углу, вернулся, надеясь увидеть знакомый свет в окне. Но окно
сумрачно отблёскивало стёклами, занавеска висела неподвижно, не теплилось на ней преоранжевое зарево,
как бывало по вечерам, и в один миг всё стало неприютным, и показалось, что там, в невидимой этой
комнатке, произошло несчастье.
С беспокойством я опять дошёл до угла и, уже подсознательно торопясь, вернулся в переулок. Я внушал
себе, что сейчас вспыхнет зелёный свет на занавеске и всё в переулке станет обыденным, умиротворённым...
Свет в окне не зажёгся.
А на следующий день я почти бегом завернул по дороге домой в соседний переулок, и здесь неожиданное
открытие поразило меня. Окно было распахнуто, занавеска отдёрнута, выказывая нутро комнаты, книжные
полки, какую-то карту на стене, — всё это впервые увидел я, не раз представляя моего неизвестного друга за
вечерней работой.
Пожилая женщина с мужским лицом и мужской причёской стояла у письменного стола и смотрела в
пространство отсутствующими глазами.
Тотчас она заметила меня, рывком задёрнула занавеску — и шершавый холодок вполз в мою душу. И
дом, и переулок, и окно представились мне ложными, незнакомыми.
И я понял, что случилось несчастье, что мой воображаемый друг, тот седенький старичок с шаркающей
походкой, к которому так тянуло меня душевно, был нужен мне как близкий друг.
(По Ю. В. Бондареву*)
* (род. в 1924 г.) — русский советский писатель и сценарист.
Вариант 3
Константин Михайлович Симонов
Среди оборванных старух, стариков и детей особенно странно выглядели на этой дороге молодые
женщины в модных пальто, жалких и пропылённых, с модными, сбившимися набок пыльными причёсками.
А в руках узлы, узелки, узелочки; пальцы судорожно сжаты и дрожат от усталости и голода.
Всё это двигалось на восток, а с востока навстречу по обочинам шоссе шли молодые парни в
гражданском, с фанерными сундучками, с дерматиновыми чемоданчиками, с заплечными мешками, — шли
мобилизованные, спешили добраться до своих заранее назначенных призывных пунктов, не желая, чтоб их
сочли дезертирами, шли на смерть, навстречу немцам. Их вели вперёд вера и долг; они не знали, где на
самом деле немцы, и не верили, что немцы могут оказаться рядом раньше, чем они успеют надеть
обмундирование и взять в руки оружие... Это была одна из самых мрачных трагедий тех дней — трагедия
людей, которые умирали под бомбёжками на дорогах и попадали в плен, не добравшись до своих призывных
пунктов.
А по сторонам тянулись мирные леса и рощицы. Синцову в тот день врезалась в память одна простая
картина. Под вечер он увидел небольшую деревушку. Она раскинулась на низком холме; тёмно-зелёные
сады были облиты красным светом заката, над крышами изб курились дымки, а по гребню холма, на фоне
заката, мальчики гнали в ночное лошадей. Деревенское кладбище подступало совсем близко к шоссе.
Деревня была маленькая, а кладбище большое — целый холм был в крестах, обломанных, покосившихся,
старых, вымытых дождями и снегами. И эта маленькая деревня, и это большое кладбище, и несоответствие
между тем и другим — всё это, вместе взятое, потрясло душу Синцова. От острого и болезненного чувства
родной земли, которая где-то там, позади, уже истоптана немецкими сапогами и которая завтра может быть
потеряна и здесь, разрывалось сердце. То, что видел Синцов за последние два дня, говорило ему, что немцы
могут прийти и сюда, но, однако, представить себе эту землю немецкой было невозможно. Такое множество
безвестных предков — дедов, прадедов и прапрадедов — легло под этими крестами, один на другом, веками,
что эта земля была своей вглубь на тысячу сажен и уже не могла, не имела права стать чужой.
Никогда потом Синцов не испытывал такого изнурительного страха: что же будет дальше?! Если всё так
началось, то что же произойдёт со всем, что он любит, среди чего рос, ради чего жил: со страной, с народом,
с армией, которую он привык считать непобедимой,- с коммунизмом, который поклялись истребить эти
фашисты, на седьмой день войны оказавшиеся между Минском и Борисовом?
0н не был трусом, но, как и миллионы других людей, не был готов к тому, что произошло. Болыная часть
его жизни, как и жизни каждого из этих людей, прошла в лишениях, испытаниях, борьбе, поэтому, как
выяснилось потом, страшная тяжесть первых дней войны не смогла раздавить его души, как не смогла
раздавить и души других людей. Но в первые дни эта тяжесть многим из них показалась нестерпимой, хотя
они же сами потом и вытерпели её.
(По К. М. Симонову*)
* (1915-1979) — советский прозаик и поэт, драматург и
киносценарист; общественный деятель, журналист, военный корреспондент.
Вариант 4
К сожалению, наши обильные разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А
нравственность... Она состоит из конкретных вещей — из определённых чувств, свойств, понятий.
Одно из таких чувств — чувство милосердия. Термин несколько устаревший, непопулярный сегодня и
даже как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним временам. «Сестра
милосердия», «брат милосердия» — даже словарь даёт их как «устар.», то есть устаревшие понятия.
В Ленинграде, в районе Аптекарского острова, была улица Милосердия. Сочли это название отжившим,
переименовали в улицу Текстилей.
Изъять милосердие — значит лишить человека одного из важнейших действенных проявлений
нравственности. Это древнее необходимое чувство свойственно всему животному сообществу, птичьему:
милость к поверженным и пострадавшим. Как же так получилось, что чувство это у нас заросло, заглохло,
оказалось запущенным? Мне можно возразить, приведя немало примеров трогательной отзывчивости,
соболезнования, истинного милосердия. Примеры такие есть, и тем не менее мы ощущаем, и давно уже,
убыль милосердия в нашей жизни. Если бы можно было произвести социологическое измерение этого
чувства...
Милосердие изничтожалось неслучайно. Во времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий
никому не позволяли оказывать помощь семьям пострадавших, нельзя было приютить детей сажать,
избивать, уничтожать. Тридцатые годы, сороковые — понятие это исчезло из нашего лексикона. Исчезло
оно и из обихода, ушло как бы в подполье. «Милость к падшим» оказывали таясь й рискуя...
Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Уверен, что это врождённое,
данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не используется, не упражняется, оно
слабеет. И исчезает.
Упражняется ли милосердие в нашей жизни?.. Есть ли постоянная принуда для этого чувства? Толчок,
призыв к нему?
Вспомнилось мне, как в детстве отец, когда мы проходили мимо нищих — а нищих было много в моём
детстве: слепых, калек, просто просящих подаяние в поездах, на вокзалах, на рынках, — отец всегда давал
медяк и говорил: поди подай. И я, преодолевая страх, — нищенство нередко выглядело довольно
страшновато, — подавал. Иногда преодолевал и свою жадность — хотелось приберечь деньги для себя, мы
жили довольно бедно. Отец никогда не рассуждал: притворяются или не притворяются эти просители, в
самом деле они калеки или нет. В это он не вникал: раз нищий — надо подать.
И как теперь я понимаю, это была практика милосердия, то необходимое упражнение в милосердии, без
которого это чувство не может жить.
(По Д. А. Гранину*)
*
общественный деятель.
(1919—2017) — советский и российский писатель, киносценарист,
Даниил Александрович Гранин
Вариант 5
Александр Иванович Куприн
Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю,
кто её строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, лёгкая,
красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определённого архитектурного стиля, с вышкой в
виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с
разбросанными то широкими, то узкими окнами, — она походила бы на здания в стиле модерн, если бы в её
плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла
в углу сада, окружённая цветником...
Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад ещё очень молодой. Росли в нём груши и
яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды,
доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда
наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно
маленькой горкой в гостиной на подоконнике...
Антон Павлович с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда
по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдёргивал сорные травы из клумб.
А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шёл дождь, наполнявший водою запасные
глиняные цистерны!
Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое
сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:
— Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево. И, конечно, мне это дорого. Но и не это важно.
Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришёл и
сделал из этой дичи культурное, красивое место. 3наете ли? — прибавлял он вдруг с серьёзным лицом,
тоном глубокой веры. — 3наете ли, через триста-четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь
будет тогда необыкновенно легка и удобна.
Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его
последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей. Как
часто, должно быть, думал он о будущем счастье человечества, когда по утрам, один, молчаливо подрезал
свои розы, ещё влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько
было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!
Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытимого человеческого сердца и
цепляющаяся за жизнь, это не было ни жадное любопытство к тому, что будет после него, ни завистливая
ревность к далёким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души,
непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости — от всего ужаса и
темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава, и
сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного,
талантливого и честного, — он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое
учительство, не ушёл в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности. Нет, вся сумма его большого и
тяжёлого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой
прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье.
— Как хороша будет жизнь через триста лет!
И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты,
и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на
новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, интересовался всяким последним
изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твёрдым убеждением говорил о
том, что преступления вроде убийства, воровства и прелюбодеяния совершаются всё реже, почти исчезают в
настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая,
истинная культура облагородит человечество.
(По А. И. Куприну*)
* (1870-1938) — русский писатель, переводчик.
Вариант 6
Есть неоспоримые истины, но они часто лежат втуне, никак не отзываясь на человеческой деятельности,
из-за нашей лени или невежества.
Одна из таких неоспоримых истин относится к писательскому мастерству, в особенности к работе
прозаиков. Она заключается в том, что знание всех смежных областей искусства — поэзии, живописи,
архитектуры, скульптуры и музыки — необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придаёт
особую выразительность его прозе. Она наполняется светом и красками живописи, свежестью слов,
характерной для поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и
ритмом и мелодичностью музыки.
Это всё добавочные богатства прозы, как бы её дополнительные цвета.
Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае это люди с несколько ленивым и
высокомерным умом, в худшем — невежды.
Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не
ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из
жизни, как жуют американскую жевательную резинку.
Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остаётся в
памяти, кроме сутолоки серых людей. Мучительно стараешься увидеть этих людей, но не видишь, потому
что автор не дал им ни одной живой черты.
И действие этих рассказов, повестей и романов происходит среди какого-то студенистого дня, лишённого
красок и света, среди вещей только названных, но не увиденных автором и потому нам, читателям, не
показанных.
Несмотря на современность темы, беспомощностью веет от этих вещей, написанных зачастую с
фальшивой бодростью. Ею пытаются подменить радость, в особенности радость труда.
Причина этой тоскливости не только в эмоциональной скудости и неграмотности автора, но и в его вялом,
рыбьем глазе.
Такие повести и романы хочется разбить, как наглухо заклеенное окно в душной и пыльной комнате,
чтобы со звоном полетели осколки и сразу же хлынули снаружи ветер, шум дождя, крики детей, гудки
паровозов, блеск мокрых мостовых, — ворвалась бы вся жизнь с её беспорядочной на первый взгляд и
прекрасной пестротой света, красок и шумов.
У нас немало книг, написанных как будто слепыми. Предназначены они для зрячих, и в этом заключается
вся нелепость их появления.
Для того чтобы прозреть, нужно не только смотреть по сторонам. Нужно научиться видеть. Хорошо
может видеть людей и землю только тот, кто их любит.
Стёртость и бесцветность прозы часто бывает следствием холодной крови писателя, грозным признаком
его омертвения. Но иногда это простое неумение, свидетельствующее о недостатке культуры. Тогда это
дело, как говорится, поправимое.
Как видеть, как воспринимать свет и краски — этому могут научить нас художники. Они видят лучше
нас. И умеют помнить увиденное.
Когда я был ещё юным писателем, знакомый художник сказал мне:
— Вы, мой милый, ещё не совсем ясно видите. Несколько мутновато. И грубо. Судя по вашим
рассказам, вы замечаете только основные цвета и сильно окрашенные поверхности, а переходы и оттенки
сливаются у вас в нечто однообразное.
— Что же я могу поделать! — ответил я, оправдываясь. — Такой уж глаз.
— Ерунда! Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь, над зрением. Держите его, как
говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на всё с мыслью, что вам это обязательно надо
написать красками.
В трамвае, в автобусе, на улице — всюду смотрите на людей именно так.
И через два-три дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и десятой доли того, что заметили
теперь. А через два месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать себя к этому.
Я послушался художника, и действительно — и люди, и вещи оказались гораздо интереснее, чем раньше,
когда я смотрел на них бегло и торопливо.
И меня охватило едкое сожаление о глупо потраченном времени. Сколько бы я мог увидеть за прошлые
годы превосходных вещей! Сколько интересного необратимо ушло, и его уже не воскресишь!
Это был первый урок, который я получил от художника.
(По К. Г. Паустовскому*)
*
отечественной литературы.
(1892-1968) — известный русский писатель, классик
Константин Георгиевич Паустовский
Вариант 7
Мне хотелось бы на прощание (в мои годы всякое свидание с людьми есть прощание) вкратце сказать
вам, как, по моему понятию, надо жить людям для того, чтобы жизнь наша не была злом и горем, какою она
теперь кажется большинству людей, а была бы тем благом и радостью, какою она и должна быть.
Всё дело в том, как понимает человек свою жизнь. Если понимать свою жизнь так, что она дана мне,
Ивану, Петру, Марье, чтобы добыть как можно больше всяких радостей, удовольствий, счастья этому «я»,
Ивану, Петру, Марье, то жизнь всегда и для всех будет несчастна и озлобленна.
Несчастная и озлобленная жизнь будет потому, что всего, чего хочется для себя одному человеку, хочется
и всякому другому. А так как каждому хочется всякого добра как можно больше для себя и добро это одно и
то же для всех людей, то добра этого для всех всегда недостаёт. И если люди живут каждый для себя, то не
миновать им отнимать друг у друга, бороться, злиться друг на друга, и от этого жизнь их не бывает
счастливою. Если временами люди и добудут себе того, чего им хочется, то им всегда мало, и они стараются
добыть всё больше и больше и, кроме того, ещё и боятся, что у них отнимут то, что они добыли, и завидуют
тем, которые добыли то, чего у них нет.
Так что если люди понимают свою жизнь каждый в своём теле, то жизнь таких людей не может не быть
несчастною. Такая она и есть теперь для всех таких людей. А такою, то есть несчастною, жизнь не должна
быть. Жизнь дана нам на благо, и так мы все и понимаем жизнь. Для того же, чтобы жизнь была такою,
людям надо понимать, что жизнь наша настоящая никак не в нашем теле, а в том духе, который живёт в
нашем теле, и что благо наше не в том, чтобы угождать и делать то, чего хочет тело, а в том, чтобы делать
то, чего хочет этот дух один и тот же, живущий в нас так же, как и во всех людях. Хочет же этот дух блага
себе, духу.
А так как дух этот во всех людях один и тот же, то и хочет он блага всем людям.
Желать же блага всем людям значит любить людей. Любить же людей никто и ничто помешать не может;
а чем больше человек любит, тем жизнь его становится свободнее и радостнее.
Так что выходит, что угодить телу человек, сколько бы он ни старался, никогда не в силах, потому что то,
что нужно телу, не всегда можно добыть, а если добывать, то надо бороться с другими. Угодить же душе
человек всегда может, потому что душе нужна только любовь, а для любви не нужно ни с кем бороться; не
только не нужно бороться с другими людьми, а напротив, чем больше любишь, тем больше с ними
сближаешься. Так что любви ничто помешать не может, и всякий человек чем больше любит, тем всё
больше и больше не только сам делается счастливым и радостным, но и делает счастливыми и радостными
других людей.
Так вот это-то, милые братья, мне хотелось сказать вам на прощание, сказать то, чему учили вас все
мудрецы мира: что жизнь наша бывает несчастна от нас самих, что та сила, которая послала нас в жизнь и
которую мы называем Богом, послала нас не затем, чтобы мы мучились, а затем, чтобы имели то самое
благо, какого мы все желаем, и что не получаем мы это предназначенное нам благо только тогда, когда
понимаем жизнь не так, как должно, и делаем не то, что должно.
А то мы жалуемся на жизнь, что жизнь наша плохо устроена, а не думаем того, что не жизнь наша плохо
устроена, а что делаем мы не то, что нужно.
А это всё равно, как если бы пьяница стал жаловаться на то, что спился он оттого, что много завелось
трактиров и кабаков, тогда как завелось много трактиров и кабаков только оттого, что много развелось таких
же, как он, пьяниц.
Жизнь дана людям на благо, только бы они пользовались ею, как должно ею пользоваться. Только бы
жили люди не ненавистью друг к другу, а любовью, и жизнь была бы неперестающим благом для всех.
(По Л. Н. Толстому*)
(1828-1910) — писатель, классик русской литературы.
Лев Николаевич Толстой
Вариант 8
Виктор Петрович Астафьев
Одно желание было у лейтенанта Бориса Костяева: скорее уйти от этого хутора, от изуродованного поля
подальше, увести с собой остатки взвода в тёплую, добрую хату и уснуть, уснуть, забыться.
Но не всё ещё перевидел он сегодня.
Из оврага выбрался солдат в маскхалате, измазанном глиной. Лицо у него было будто из чугуна отлито:
черно, костляво, с воспалёнными глазами. Он стремительно прошёл улицей, не меняя шага, свернул в
огород, где сидели вокруг подожжённого сарая пленные немцы, жевали чего-то и грелись.
— Греетесь, живодёры! Я вас нагрею! Сейчас, сейчас... — солдат поднимал затвор автомата
срывающимися пальцами.
Борис кинулся к нему. Брызнули пули по снегу... Будто вспугнутые вороны, заорали пленные, бросились
врассыпную, трое удирали почему-то на четвереньках. Солдат в маскхалате подпрыгивал так, будто
подбрасывало его землёю, скаля зубы, что-то дикое орал он и слепо жарил куда попало очередями.
— Ложись! - Борис упал на пленных, сгребая их под себя, вдавливая в снег.
Патроны в диске кончились. Солдат всё давил и давил на спуск,
не переставая кричать и подпрыгивать. Пленные бежали за дома, лезли в хлев, падали, проваливаясь в
снегу. Борис вырвал из рук солдата автомат. Тот начал шарить на поясе. Его повалили. Солдат, рыдая, драл
на груди маскхалат.
— Маришку сожгли-и-и! Селян в церкви сожгли-и-и! Мамку!
Я их тыщу... Тыщу кончу! Гранату дайте!
Старшина Мохнаков придавил солдата коленом, тёр ему лицо, уши, лоб, грёб снег рукавицей в
перекошенный рот.
— Тихо, друг, тихо!
Солдат перестал биться, сел и, озираясь, сверкал глазами, всё ещё накалёнными после припадка. Разжал
кулаки, облизал искусанные губы, схватился за голову и, уткнувшись в снег, зашёлся в беззвучном плаче.
Старшина принял шапку из чьих-то рук, натянул её на голову солдата, протяжно вздохнув, похлопал его по
спине.
В ближней полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата, напяленного на
телогрейку, перевязывал раненых, не спрашивая и не глядя — свой или чужой.
И лежали раненые вповалку — и наши, и чужие, стонали, вскрикивали, плакали, иные курили, ожидая
отправки. Старший сержант с наискось перевязанным лицом, с наплывающими под глазами синяками,
послюнявил цигарку, прижёг и засунул её в рот недвижно глядевшему в пробитый потолок пожилому
немцу.
Ко]
— Как теперь работать-то будешь, голова? — невнятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на
руки немца, замотанные бинтами и портянками. — Познобился весь. Кто тебя кормить-то будет и семью
твою? Фюрер? Фюреры, они накормят!..
В избу клубами вкатывался холод, сбегались и сползались раненые. Они тряслись, размазывая слёзы и
сажу по ознобелым лицам.
А бойца в маскхалате увели. Он брёл, спотыкаясь, низко опустив голову, и всё так же затяжно и беззвучно
плакал. 3а ним с винтовкой наперевес шёл, насупив седые брови, солдат из тыловой команды, в серых
обмотках, в короткой прожжённой шинели.
Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых, пластать на них одежду, подавать бинты и
инструменты. Корней Аркадьевич, из взвода Костяева, включился в дело, и легкораненый немец, должно
быть из медиков, тоже услужливо, сноровисто начал обихаживать раненых.
Рябоватый, кривой на один глаз врач молча протягивал руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и
разжимал пальцы, если ему не успевали подать нужное, и одинаково угрюмо бросал раненому:
— Не ори! Не дёргайся! Ладом сиди! Кому я сказал... Ладом!
И раненые, хоть наши, хоть исчужа, понимали его, послушно, словно в парикмахерской, замирали,
сносили боль, закусывая губы.
Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки о бязевую онучу, висевшую у припечка на
черенке ухвата, делал козью ножку из лёгкого табака.
Он выкуривал её над деревянным' стиральным корытом, полным потемневших бинтов, рваных обуток,
клочков одежды, осколков, пуль. В корыте смешалась и загустела брусничным киселём кровь раненых
людей, своих и чужих солдат. Вся она была красная, вся текла из ран, из человеческих тел с болью. «Идём в
крови и пламени, в пороховом дыму».
(По В. П. Астафьеву*)
* (1924-2001) — советский и российский писатель, драматург, эссеист.
Вариант 9
Я стоял у окна вагона, бесцельно глядя на бегущий мимо пейзаж, на полустанки и маленькие станции,
дощатые домики с названиями чёрным по белому, которые не всегда успевал прочитывать, да и зачем. Поля,
перелески, столбы, волны проводов, стога сена, кусты, просёлки — и так час за часом. Рядом, у следующего
окна, стоял мальчик. Он смотрел неотрывно. Мать позвала его в купе, он схватил бутерброд и снова прилип
к стеклу. Она попробовала усадить его к окну в купе, но он не согласился. 3десь, в коридоре, ему никто не
мешал, он был безраздельным хозяином своей подвижной картины. Я уходил, разговаривал со своими
спутниками, возвращался и заставал его в той же позе. Что он там высматривал, как ему не надоело, ведь это
было совершенно бессюжетное зрелище, не то что экран телевизора. Теперь я смотрел не в окно, а на него.
Кого-то он мне напоминал. Ну конечно, та же поза, те же грязноватые стёкла. Они-то и помогли мне
вспомнить мои детские путевые бдения. С той же жадностью и я ведь простаивал часами перед теми же
стёклами, заворожённый мельканием путевых картин. Оттуда, не из близи, несущейся навстречу, а из далей,
еле плывущих, почти недвижимых пространств, из лесной каймы на горизонте, серых туманных полей
возвращались устремлённые к ним детские мечтания. В тех смутных, расплывчатых картинах я был
путешественником, был охотником и одновременно медведем, был журавлём, шагающим по болоту...
Бесконечная смена берёзок, елей, лесных проталин, деревень, пашен — и снова лес, просеки, изгороди —
всё это тогда почему-то не усыпляло, а возбуждало воображение.
Я растворялся в огромности этой земли, она входила в сознание, откладывалась на всю жизнь. Спустя
десятилетия у окна поезда, постукивающего по рельсам Германии, а то и Китая, где каждый клочок
обработан, откосы железнодорожных насыпей сплошь засеяны, в моём восприятии присутствовали
впитанные детской душой просторы, эти стояния у окна.
Вдруг в бесформенной зыбкости воспоминаний, глядящих из закатного окна, обозначилось что-то. Это
был мужик, огромный, в жёлтой рубахе, с колом в руках. Смутно вспомнились станционный палисадник,
несколько телег, лошади с холщовыми торбами на мордах. Но всё это: и привокзальная площадь с
деревянными мостками, и перрон, и станционный колокол — всё было как бы задником, а впереди, подняв
кол, мужик бежал за пареньком, который, прикрыв голову руками, мчался вдоль перрона по ходу поезда. Он
бежал, прихрамывая, лицо его было обращено к вагонам, на какой-то миг глаза наши встретились.
Ужас был в его взгляде, крик о помощи, а перрон был пуст, мне показалось, что я единственный человек,
единственный свидетель, которого он увидел; я наклонился к краю рамы, но в окно уже вошли огороды с
чучелами, шлагбаум, и станция исчезла, как исчезали все другие станции. Догонит ли его этот с колом, что
будет с ним, за что он его так — ничего этого я никогда не узнаю. Помню своё отчаяние, которое росло
оттого, что поезд не останавливается, мчится всё дальше, а там, может, парня догнали и бьют, и никто этого
не видит, не знает, и я не могу никого позвать, показать. Кажется, я действительно закричал, побежал к отцу,
который был в купе, никто ничего не понял из моих объяснений, и я понял, что ничего не могу им
объяснить. Кажется, так оно было, но с уверенностью не могу сказать, да и какое это имеет значение.
Значение же имели огромные глаза этого паренька, мужика того я узнал бы, а от парня остались только
ужас, заполнивший всё окно, и невозможность вмешаться, помочь, закричать. И опять пошли перелески,
колыхания проводов, песчаные тропки в зелёной траве, голубые поля льна, серебряные — овсов, красные —
гречихи, золотистые — ржи, сизые — капусты, ельники, клевера, рыжие стада — огромный мир, который
заботливо старался смыть ту случайную картинку. Она затерялась в памяти. Но сейчас, глядя в такое же
пыльное, в грязных потёках окно, я с завистью вспомнил своё мальчишеское отчаяние.
(По Д. А. Гранину*)
*
общественный деятель.
(1919-2017), советский и российский писатель, киносценарист,
Даниил Александрович Гранин
Вариант 10
Ты часто жаловался мне, что тебя «не понимают!». На это даже Гёте и Ньютон не жаловались... Тебя
отлично понимают... Если же ты сам себя не понимаешь, то это не вина других.
Уверяю тебя, что, как брат и близкий тебе человек, я тебя понимаю и от всей души тебе сочувствую. Все
твои хорошие качества я знаю как свои пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким
уважением. Я, если хочешь, в доказательство того, что понимаю тебя, могу даже перечислить эти качества.
По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист, делишься последней копейкой, искренен. Ты
чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, неехиден, незлопамятен, доверчив.
Ты одарён свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо
на земле один художник приходится только на два миллиона.
Талант ставит тебя в обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя
уважали, ибо таланту всё прощается. Недостаток же у тебя только один. В нём и твоя ложная почва, и твоё
горе. Это твоя крайняя невоспитанность. Извини, пожалуйста. Дело в том, что жизнь имеет свои условия.
Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть среди неё чужим и самому
не тяготиться ею, нужно быть известным образом воспитанным.
Воспитанные люди, по моему мнению, такие.
Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы.
Живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они
прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних.
Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь
простым глазом.
Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.
Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в пустяках.
Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего.
Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии. Они
неболтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще
молчат.
Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие и стремление помочь. Они не
играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они йе говорят: «Меня не
понимают!»
Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями.
Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином,
суетой.
Таковы воспитанные. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно
прочесть Пиквика и вызубрить монолог из Фауста.
Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый
час.
(По А. П. Чехову*)
Антон Павлович Чехов (1860-1904) — русский писатель, прозаик, драматург.
Вариант 11
В спорах о современном стиле часто проскальзывает или нарочито заостряется мысль о какой-то
ультрасовременной телеграфной краткости прозы. Порой спорщики пекутся о времени нашего читателя,
которому «не поднять толстый роман», ибо есть полуторачасовое кино, телевизор и иные технические
чудеса XX века.
Современен ли Толстой с его многотомными романами, с его подробнейшими описаниями состояния и
чувств человека, с его детальнейшим исследованием души в её тончайших проявлениях? Разумеется, вопрос
этот смешон, применимый к гению — к художнику, имя которого, видимо, знают или слышали все на нашей
планете.
Толстой волновал современников и будет волновать ещё многие поколения потомков до тех пор, пока
человек будет человеком, пока будут существовать общество, жизнь и смерть, добро и зло, любовь к детям и
женщине, стремление к самосовершенствованию, то есть к воспитанию таких черт в человеке, которые
делают его добрым властелином мира.
Гению Толстого свойственно проникать в глубины природы, а значит, в глубины человеческого сознания.
Его глаза видели то, что не видели другие, его проникновение в психологию и, следовательно, в природу
настолько гениально, всеобъёмно, что мы порой говорим: «Толстой написал всю психологию человека».
Все изменения человеческого чувства Толстой показывал, раскрывал посредством своего мускулистого,
точного языка, посредством крепкой и многопериодной фразы, где была некоторая нарочитая угловатость и
в то же время естественность, за которой уже исчезает язык как инструмент литературы и остаётся живая
жизнь, ощущение чувства, движение души. Углубляясь в чтение Толстого, вы почти никогда не замечаете,
сколько раз повторено во фразе «что», «как» и «который», — вы поглощены течением толстовских мыслей,
неожиданных и одновременно естественных открытий человеческой психологии, равных великим
открытиям законов природы и общества. Гениальный художник никогда не поражал нас и, видимо, не хотел
поражать «обнажённым мастерством», той выпирающей щеголеватостью фразы, что было свойственно,
например, Бунину, который покоряет нас серебряной чеканкой мастерства. Невозможно объяснить, как
достигает этого Толстой, но язык его настолько непосредствен, что как бы исчезает сама фраза, заслоняясь
огромной мыслью. И это свойство величайшего гения — искусство становится не отражением жизни, а
самой жизнью...
Толстой, как известно, писал и лаконичные, и большие вещи, но он всегда был краток. Он подымал такие
пласты психологии, он развёртывал такие общественные события, он описывал такие характеры, что «Война
и мир» кажется весьма коротким произведением.
Изображая нашу сложнейшую и невиданную в истории человечества эпоху, мы должны каждодневно
учиться этой краткости, этой глубине и художнической смелости художника-гиганта.
(По Ю. В. Бондареву*)
*
деятель.
(род. в 1924 г.) — русский советский писатель, сценарист, общественный
Юрий Васильевич Бондарев
Вариант 12
Вот что! — с восторгом воскликнул Иван Васильевич. — Вот что!.. Надо заделать прореху в нашей
истории. Надо написать краткую, но выразительную летопись Восточной России...
Тут жар Ивана Васильевича немного простыл.
«А источники где? — подумал он. — Источники найдутся где-нибудь. А как
найдутся? »
Нет, Иван Васильевич, это труд уж, кажется, не по тебе. И в самом деле, кому же охота пожертвовать
всей жизнью на дело, которое ещё на поверку может выйти вздором?..
Вдруг Иван Васильевич ударил себя по лбу.
Нашёл! — закричал он с вдохновением. — Нашёл своё новое, глубокое, громадное воззрение... Я человек
русский, я посвятил себя России. Скажет ли она за то спасибо — не знаю; да не в том дело. Я все труды, все
мысли отдаю родине, и потому прочие предметы могут иметь для меня ценность только относительную.
Итак, я изучу влияние Востока на Россию, в отношениях его к одной России, влияние неоспоримое, влияние
важное, влияние тройственное: нравственное, торговое и политическое. Сперва начну с нравственного
влияния, которое с давнего времени ведёт на нашей почве упорную борьбу с влиянием Запада. Давно оба
врага разъярились и кинулись друг на друга врукопашную, не замечая, что они стискивают между собою
бедное, исхудалое славянское начало. Не лучше ли бы им, кажется, помириться, и взять с обеих сторон
невинную жертву за руки, и вывести её на чистый воздух, и дать ей поздороветь. Пусть каждый расскажет
ей потом исповедь своего сердца, наставит на истинный путь, указав на пагубные последствия собственных
заблуждений, на блестящую награду своих доблестей. В самом деле, Россия находится в страшном
положении. Слева Европа, как хитрая прелестница, нашёптывает ей на ухо обольстительные слова; справа
Восток, как пасмурный седой старик, протяжно, но грозно твердит ей вечно свою неизменную речь.
Кого же слушать? К кому обращаться? Слушать обоих. Не обращаться ни к кому, а идти вперёд своей
дорогой. Слушать для того, чтоб воспользоваться чужим опытом, чужими бедствиями, чужими страшными
уроками и надёжнее, вернее стремиться к истине. На Востоке всякое убеждение свято. На Западе нет более
убеждений. На Востоке господствует чувство, на Западе владычествует мысль.
А России суждено слить в себе мысль и чувство при лучах просвещения, как сливаются на небе цвета
радуги от яркого блеска солнца. Восток презирает суетность житейских треволнений; Запад погибает в
беспрерывном их столкновении. И тут можно найти середину. Можно слить желание усовершенствования с
мирным, высоким спокойствием, с непоколебимыми основными правилами. Мы многим обязаны Востоку:
он передал нам чувство глубокого верования в судьбы провидения, прекрасный навык гостеприимства и в
особенности патриархальность нашего народного быта. Но — увы! — он передал нам также свою лень, своё
отвращение к успехам человечества, непростительное нерадение к возложенным на нас обязанностям и, что
хуже всего, дух какой-то странной, тонкой хитрости, который, как народная стихия, проявляется у нас во
всех сословиях без исключения. При благодетельном направлении эта хитрость может сделаться качеством
и даже добродетелью, но при отсутствии духовного образования она доводит до самых жалких последствий;
она приводит к неискренности взаимных отношений, к неуважению чужой собственности, к постоянному
тайному стремлению ослушиваться законов, не исполнять приказаний и, наконец, даже к самому
безнравственному плутовству. (ЗЭ)Востоку мы обязаны тем, что столько мужиков и мастеровых
обманывают нас на работе, столько купцов обвешивают и обмеривают в лавках и столько дворян губят имя
честного человека на службе. Страшно вымолвить, — а привычка в нас сделала то, что мы остаёмся
равнодушными, будучи свидетелями самых противозаконных хищений, так что даже первобытные понятия
наши с годами изменяются и кража не кажется нам воровством, обман нам кажется не ложью, а какой-то
предосудительною необходимостью.
Впрочем, слава богу, тут Западом побеждён у нас Восток, и мстительный факел осветил пучину козней и
позора. Долго ещё будут у нас проявляться следы сокрушительного начала, но они давно уже переходят в
осадки всех сословий, в низшие слои людей разных именований, потому что каждое сословие имеет свою
чернь. Как ни говори, как ни кричи, что ни печатай, Россия быстрым полётом стремится по стезе величия и
славы — к недосягаемой на земле цели совершенства. И более всех других народов Россия приблизится к
ней, ибо никогда не забудет, что одного вещественного благосостояния точно так же недостаточно для
жизни государства, как недостаточно для жизни частного человека. Широкой, могучей пятой задавит она
мелкие гадины, кровожадные ехидны, которые хотят ползком пробраться до её сердца, и весело отпрянет
она, полная любви и силы, к чистому, беспредельному русскому небу...
— Вот, — заключил Иван Васильевич, — предмет так предмет! Влияние нравственное, влияние торговое,
влияние политическое. Влияние восточное, слитое с влиянием Запада в славянском характере, составляет,
без сомнения, нашу народность. Но как распознать каждую стихию отдельно? Народность-то, кажется,
Владимир Александрович Соллогуб
препорядочно закутана. Её придётся распеленать, чтоб добраться до неё, а потом как узнаешь, что пелёнка,
что нога? Мужайся, Иван Васильевич: дело великое! Ты на Восток недаром попал; итак, изучай старательно
влияние Востока на святую Русь... Ищи, ищи теперь впечатлений. Всматривайся в восточные народы.
Изучай всё до последней мелочи... Рассмотри каждую каплю, влитую в нашу народную жизнь, — а потом и
найдёшь ты народность. 3а дело, Иван Васильевич, за дело!
(По В. А. Соллогубу*)
* (1813-1882) — русский прозаик, драматург, поэт и мемуарист.
Вариант 13
Я всё чаще думаю о том, как трудно быть истинно благодарным, то есть принести пользу тому, кто оказал
нам некогда благодеяние. Неуважение к заслугам, а ещё более неблагодарность представлялись всегда
моему воображению в самом отвратительном виде. В душе я никогда не был неблагодарным, но — увы!
На деле я не сумел или даже не захотел (кто доберётся до правды, роясь в хламе сердца!) быть
благодарным именно там, где благодарность была священным долгом.
Правда, во всей моей жизни не так много случаев такого долга.
Я имел твёрдое намерение отблагодарить — и не однажды, — но судьба не дала мне этого сделать. Один
случай касается целого периода моей жизни; здесь я скажу только, что я считал себя обязанным
благодарностью почтенному семейству профессора Мойера, а именно его почтеннейшей тёще Екатерине
Афанасьевне Протасовой, урождённой Буниной (сестре по отцу Василия Андреевича Жуковского).
Я был принят в этом семействе как родной и мечтал о женитьбе на его дочери.
Мечтам юности не суждено было осуществиться, и я поневоле остался в долгу у незабвенной Екатерины
Афанасьевны.
Наконец, самый священный долг, оставшийся не совсем выполненным, — как бы мне теперь (но, увы,
поздно!) хотелось это сделать, — был долг благодарности моей матери и двум старшим сёстрам. Со смерти
отца, с 1824 по 1827 год, эти три женщины содержали меня своими трудами. Кое-какие крохи, оставшиеся
после разгрома отцовского состояния, недолго тянулись; и мать, и сёстры принялись за мелкие работы; одна
из сестёр поступила на работу в какое-то благотворительное детское заведение в Москве и своим крохотным
жалованьем поддерживала существование семьи.
Уроков я не мог давать: одна ходьба в университет с Пресненских прудов брала взад и вперёд часа четыре
времени, да мать и не хотела, чтобы я работал.
— Ты будешь, — говорилось, — чужой хлеб заедать; пока хоть какая-нибудь есть возможность, живи на
нашем.
Так и перебивались. К счастью нашему, в то блаженное время не платили за лекции, не носили мундиров,
и даже когда введены были мундиры, то мне сшили сёстры из старых вещей какую-то мундирную куртку с
красным воротником, и я, чтобы не обнаружить несоблюдения формы, сидел на лекциях в шинели,
выставляя на вид только светлые пуговицы и красный воротник.
Как мы выжили в Москве во время моего студенчества, для меня осталось загадкою. Квартира и
отопление были, правда, даровые у дяди в течение года. А содержание? А платье? Две сестры, мать и две
служанки, и я на прибавку.
Сёстры работали; продавались какие-то остатки, но как этого доставало — не понимаю. Иногда, только
иногда, в торжественные праздники, помогал мой крёстный отец, Семён Андреевич Лукутин; помогали
иногда кое-какие старые знакомые. Но я не был благодарным по отношению к ним, о чём сейчас сожалею.
(По Н. И. Пирогову*)
(1810-1881) — великий русский хирург, педагог.
Николай Иванович Пирогов
Вариант 14
Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и отправляйся берегом его вверх или вниз.
Я иду берегом своего любимого ручья самой ранней весной. И вот что я тут вижу, и слышу, и думаю.
Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей и от этого журчит о корни и
распускает пузыри. Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся и тут же лопаются, но большая часть их сбивается
дальше у нового препятствия в далеко видный белоснежный ком.
Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого не делается, только собирается в
струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной борьбе.
Водная дрожь от солнца бросается тенью на ствол ёлки, на травы, и тени бегут по стволам, по травам, и в
дрожи этой рождается звук, и чудится, будто травы растут под музыку, и видишь согласие теней.
С мелкоширокого плёса вода устремляется в узкую приглубь, и от этой бесшумной устремлённости
кажется, будто вода мускулы сжала.
Рябь же на воде, схваченная солнцем, и тень, как дымок, перебегает вечно по деревьям и травам, и под
звуки ручья раскрываются смолистые почки, и травы поднимаются из-под воды и на берегах.
А вот тихий омут с поваленным внутрь его деревом; тут блестящие жучки- вертунки распускают рябь на
тихой воде.
Под сдержанный ропот воды струи катятся уверенно и на радости не могут не перекликнуться: сходятся
могучие струи в одну большую и, встречаясь, сливаются, говорят и перекликаются: это перекличка всех
приходящих и расходящихся струй.
Вода задевает бутоны новорождённых жёлтых цветов, и так рождается водная дрожь от цветов. Так
жизнь ручья проходит то пузырями и пеной, а то в радостной перекличке среди цветов и танцующих теней.
Дерево давно и плотно легло на ручей и даже позеленело от времени, но ручей нашёл себе выход под
деревом и быстриком, с трепетными тенями бьёт и журчит.
Некоторые травы уже давно вышли из-под воды и теперь на струе постоянно кланяются и отвечают
вместе и трепету теней, и ходу ручья.
А то вот большой завал, и вода как бы ропщет, и далеко слышен этот ропот и переплеск. Но это не
слабость, не жалоба, не отчаяние — вода этих человеческих чувств вовсе не знает; каждый ручей уверен в
том, что добежит до свободной воды, и далее, если встретится гора, пусть и такая, как Эльбрус, он разрежет
пополам Эльбрус, а рано ли, поздно ли, но всё равно добежит.
Пусть завал на пути, пусть! Препятствия делают жизнь: не будь их, вода бы безжизненно сразу ушла в
океан, как из безжизненного тела уходит непонятная жизнь.
На пути явилась широкая низина. Ручей, не жалея воды, наполнил её и побежал дальше, оставляя эту
заводь жить собственной жизнью.
Согнулся широкий куст под напором зимних снегов и теперь опустил в ручей множество веток, как паук,
и, ещё серый, насел на ручей и шевелит всеми своими длинными ножками.
Семена елей плывут и осин.
Весь проход ручья через лес — это путь длительной борьбы, и так создаётся тут время.
И так длится борьба, и в этой длительности успевает зародиться жизнь и моё сознание.
Да, не будь этих препятствий на каждом шагу, вода бы сразу ушла и вовсе бы не было жизни-времени.
В борьбе своей у ручья есть усилие, струи, как мускулы, скручиваются, но нет никакого сомнения в том,
что рано ли, поздно ли он попадёт в океан к свободной воде, и вот это «рано ли, поздно ли» и есть самое-
самое время, самая-самая жизнь.
Перекликаются струи, напрягаясь у сжатых берегов, выговаривают своё: «рано ли, поздно ли». И так весь
день и всю ночь журчит это «рано ли, поздно ли».
И пока не убежит последняя капля, пока не пересохнет весенний ручей, вода без устали будет твердить:
«Рано ли, поздно ли мы попадём в океан».
По заберегам отрезана весенняя вода круглой лагункой, и в ней осталась от разлива щучка в плену.
А то вдруг придёшь к такому тихому месту ручья, что слышишь, как на весь-то лес урчит снегирь и
зяблик шуршит старой листвой.
А то мощные струи, весь ручей в две струи под косым углом сходится и всей силой своей ударяет в кручь,
укреплённую множеством могучих корней ели.
Так хорошо было, что я сел на корни и, отдыхая, слышал, как там внизу, под кручей, перекликались
уверенно могучие струи. Привязал меня ручей к себе, и не могу я отойти в сторону...
Вышел на лесную дорогу — на самых молодых берёзках зеленеют и ярко сияют ароматной смолой почки,
но лес ещё не одет.
Ручей выбежал из глухого леса на поляну и в открытых тёплых лучах солнца разлился широким плёсом.
Половина воды отдельным ручьём пошла в сторону, другая половина — в другую. Может быть, в борьбе
Михаил Михайлович Пришвин
своей за веру в своё «рано ли, поздно ли» вода разделилась: одна вода говорила, что вот этот путь раньше
приведёт к цели, другая в другой стороне увидела короткий путь, и так они разошлись, и обежали большой
круг, и заключили большой остров между собой, и опять вместе радостно сошлись и поняли: нет разных
дорог для воды, все пути рано ли, поздно ли непременно приведут её в океан.
И глаз мой обласкан, и ухо всё время слышит: «рано ли, поздно ли», и аромат смолы и берёзовой почки
— всё сошлось в одно, и мне стало так, что лучше и быть не могло, и некуда мне было больше стремиться. Я
опустился между корнями дерева, прижался к стволу, лицо повернул к тёплому солнцу, и тогда пришла моя
желанная минута.
Ручей мой пришёл в океан.
(По М. М. Пришвину*)
* (1873-1954) — русский писатель, прозаик и публицист.
Вариант 15
Почти невозможно было представить себе, что лишь неделю назад он защищал диссертацию на тему
«Древнейшие сказания европейских народов». А теперь?..
Мёртвое, взрытое снарядами поле лежало перед ним, земля, на которой был посеян и взошёл хлеб, а
потом сгорел и был развеян по ветру вместе с пороховым дымом, земля, на которой было сделано всё,
чтобы человек не мог на ней существовать.
По одну сторону этого куска земли лежали, спрятавшись за глинистыми буграми, гитлеровцы,
пришедшие в чужую, далёкую страну по приказу своего фюрера, уничтожающие, сжигающие всё на
своём пути. Неподалёку от них, по эту сторону мёртвого ржаного поля, лежал только один — кандидат
филологических наук младший лейтенант Лев Никольский.
Он был окружён и по всем правилам войны должен был сложить оружие и сдаться в плен
победителям. Но он не считал себя побеждённым: пулемёт ещё работал, а если бы он замолчал, в ход
пошли бы винтовка и гранаты. Впрочем, он был не один. Двенадцать мёртвых товарищей, которые ещё
вчера вместе с ним защищали этот голый кусок земли с одинокой берёзой, лежали вдоль траншеи.
Тринадцатый оказался живым. Это был разведчик Петя Данилов, любимец всего полка, талантливый и
умный парень, писавший стихи и читавший их вслух в самые горячие минуты боя.
Теперь он лежал, раненный в грудь навылет, и смотрел в небо, осеннее, но ясное, с редкими,
освещёнными снизу облаками. Берёза вздрагивала от выстрелов, и жёлтые листья время от времени
падали на раненого. Один лист упал Пете на лицо, но Петя не смахнул его, не пошевелился.
В одну из редких пауз тишины Никольский подполз к Пете и, смахнув лист, взял его за руку.
— Ну как ты, а?
— Ничего, — чуть слышно ответил Петя, — дышать трудно. Послушай... — он помолчал, потом стал
с трудом вынимать из кармана гимнастёрки бумаги. —
Тут мои стихи остались, пошли их вместе с письмом, ладно?
Должно быть, не больше пяти минут он провёл с Петей, а уж немцы, воспользовавшись тем, что
пулемёт замолчал, намного продвинулись к траншее.
Никольский дал очередь, другую — они залегли. Потом снова стали приближаться, прячась между
редкими пучками ржи, торчавшей в поле.
Плохо было то, что слева, метрах в двухстах от берёзы, стояло орудие.
Правда, оно стреляло не по траншее, а в глубину, туда, где на горизонте были видны тёмные, ещё
дымящиеся развалины сгоревшей деревни. Но в любую минуту оно могло ударить и по траншее,
которую защищало подразделение, состоящее из двенадцати убитых, одного серьёзно раненного и
одного живого. Эх, подобраться бы к этому орудию! И тропка была — вот там, где за выходами взрытой
бурой земли начиналось болотце с высокой травой. Но нечего было и думать! Он понимал, что немцы
захватят траншею, едва только замолчит пулемёт...
Никольский прислушался, и в первый раз его сердце дрогнуло, и он крепко сжал зубы, глаза, всё лицо,
чтобы справиться с невольным волнением. Петя читал стихи, он бредил, но голос был ясный, звонкий:
Есть улица в нашей столице,
Есть домик, и в домике том Ты пятую ночь в огневице Лежишь на одре роковом...
Петя читал, закрыв глаза, и каждое слово доносилось отчётливо и плавно.
У него было потемневшее страшное лицо, когда, сунув в кружку с водой руку, он начал водить ею по
лицу, по глазам. Потом вылил воду на голову и, тяжело опершись на Никольского, пополз к пулемёту.
— Есть! Иди, — сказал он, схватившись за ручки пулемёта...
Пробираясь по тропке к болотцу, Никольский услышал звонкий Петин голос, читавший стихи между
пулемётными очередями:
Не снятся ль тебе наши встречи На улице, в жуткий мороз,
Иль наши любовные речи И ласки, и ласки до слёз?
Втянув голову в плечи, он мягко опустился в траву и бесшумно пополз, скорее угадывая, чем видя
чуть примятую, пересекавшую болото тропинку. Он подобрался к орудию сзади и некоторое время
лежал, слушая, как немцы разговаривали резкими уверенными голосами. 0н ждал, когда весь расчёт
соберётся возле орудия...
Немцы, занявшие траншею, были захвачены врасплох, и первым же снарядом из уже заряженного
орудия Никольский убил сразу человек двадцать.3а стихи, которые Петя читал между пулемётными
очередями!
Вениамин Александрович Каверин
3а дымящиеся развалины сожжённой деревни! 3а ограбленных женщин и детей, бродящих по лесам
без крова и пищи. 3а горе каждой семьи, за разлуку с близкими, за Аню с маленьким сыном, которых он,
может быть, больше никогда не увидит...
(По В. А. Каверину*)
* (1902-1989) — русский советский писатель, драматург и
сценарист, автор приключенческого романа «Два капитана».
Вариант 16
Любовь Фёдоровна Воронкова
Второй час ожидания подходил к концу, когда Женя наконец вошла в кабинет отца, где Савелий
Петрович, озабоченный и нахмуренный, читал какое-то заявление.
— Что надо? — резко спросил он, не поднимая глаз.
Женя, удивлённая его тоном, не сразу ответила.
— Это я, папа! — с достоинством сказала Женя. — Я должна поговорить с тобой.
Вчера, на празднике, ты говорил, что молодёжь не должна уезжать из совхоза, что мы главная сила,
без которой трудно будет строить новое, развивать то, что уже сделано.
Я тоже, как и все наши ребята, решила остаться, а в вуз поступать можно и на заочный. Вот пришла
посоветоваться: если я останусь в совхозе, то как, по-твоему, за какую работу мне взяться? Может,
вместе с Руфой на утиную ферму?
Савелий Петрович выпил воды.
— Хорошо, поговорим спокойно. Ты запомнила мою речь — и напрасно: я не для тебя произносил
свою речь, не для тебя! А для них, пойми ты это, ты же взрослая и должна понимать. Мне — директору,
хозяину — нужно, чтобы молодёжь осталась в совхозе, ведь это — сила нашего хозяйства, его молодая
кровь, молодая мысль, это — его будущее. Я обязан думать о будущем моего хозяйства, если даже меня
самого здесь не будет.
— Так почему же я...
— Потому. Садись и слушай. И не вскакивай, когда с тобой разговаривают. Женя послушно села, не
сводя с отца широко открытых, почти испуганных глаз.
— Слушай, Женя, — мягко и задушевно сказал Савелий Петрович, и голос его стал бархатным, —
поверь мне, я знаю, что такое труд в сельском хозяйстве, почём фунт лиха. Я знаю, что такое холод,
промокшие ноги, непогода — когда надо убирать хлеб, засуха — когда нужен дождь. 3наю, что такое
нехватка рабочей силы, когда на огороды наступают полчища сорняков или вредителей, когда хлеб и лён
остаются неубранными в поле. Сельское хозяйство подвержено всяким капризам и неожиданностям
природы, стихиям, с которыми мы пока ещё не умеем справляться.
Вот засеял ты поле, выходил колос тяжёлый, чуть не до земли клонится...
Думаешь — урожай будь здоров! И вдруг туча, град — и за десять минут всё, что взлелеял, пропало:
одна изломанная, вбитая в грязь солома...
— Так если все решили остаться...
— По-до-жди! — Савелий Петрович хлопнул по столу рукой. — Возьмём другие отрасли. Ферма,
утки, романтика! На словах. На бумаге. А на деле — вечно в грязи, вечно с мокрыми, красными руками,
вечно в сапогах с налипшей глиной. И так всю жизнь! Вот и вся романтика! 3ачем тебе эти утки? Ты
поступишь в институт, получишь настоящее образование, будешь учительницей, а потом директором
школы... Подумай ещё!
Женя сидела бледная, с неподвижным, словно застывшим, взглядом, а Савелий Петрович схватил
портфель и стремительно вышел из кабинета. Женя не успела шагнуть на крыльцо, как его машина
фыркнула газом и рывком сорвалась с места.
Женя вышла на улицу, ошеломлённая тем, что услышала. 3елёный мир совхозной улицы, цветущих
палисадников, мохнатой ромашки у кромки жёлтой от зачерствевшей глины дороги принял её в свою
тишину. Но Женя шла и не видела ничего: ни алых костров мальвы, ни цветущих лип над крышами, ни
подёрнутых синевой дальних лесистых косогоров... Чувство неслыханного разочарования оглушило её,
как удар. И это разговаривал с ней отец, которого она так безгранично уважала. Он разговаривал с ней
сейчас, как самый последний мещанин! Пускай всё делают они: Руфа, Ваня, Юрка, Вера Грамова — все,
кто угодно, но не она, потому что она директорская дочка Женя Каштанова!
Женя не заметила, как взбежала на бугор, как спустилась к озеру. И здесь, у тихой, стеклянно-голубой
воды, легла в высокую траву. 3а все её восемнадцать лет была ли когда-нибудь минута, чтобы она в чём-
нибудь не поверила отцу?
И здесь, у тихой воды, она вдруг поняла, что отец сказал ей правду, что он, как отец, действительно
хочет для неё лучшей доли, чем совхозная жизнь утятницы!
Но он дал право выбора именно ей, не запретил, не настоял на своей воле, а сказал думать ещё! И это
осознание принесло ей облегчение, а решение остаться всё крепло в её сознании...
(По Л. Ф. Воронковой*)
* (1906-1976) — советская писательница, автор многих детских книг.
Вариант 17
Летом 1940 года ленинградский художник Балашов уехал охотиться и работать на Север. В первой же
понравившейся ему деревушке Балашов сошёл со старого речного парохода и поселился в доме
сельского учителя. В этой деревушке жила со своим отцом — лесным сторожем — девушка Настя,
знаменитая в тех местах кружевница и красавица.
Однажды на охоте отец Насти неосторожным выстрелом ранил Балашова в грудь. Раненого принесли
в дом сельского учителя. Удручённый несчастьем, старик-сторож послал Настю ухаживать за раненым.
Настя выходила Балашова, и из жалости к раненому родилась первая её девичья любовь. Но проявления
этой любви были так застенчивы, что Балашов ничего не заметил.
У Балашова в Ленинграде была жена, но он ни разу никому не рассказывал о ней. Все в деревне были
убеждены, что Балашов — человек одинокий.
Как только рана зажила, Балашов уехал в Ленинград. Перед отъездом он пришёл без приглашения в
избу к Насте поблагодарить её за заботу и принёс ей подарки. Настя приняла их.
Балашов впервые попал на Север. Он не знал местных обычаев. Балашов не знал, что мужчина,
который пришёл без зова в избу к девушке и принёс ей подарок, считается, если подарок принят, её
женихом. Так на Севере говорят о любви.
Настя робко спросила Балашова, когда же он вернётся из Ленинграда.
Балашов, ничего не подозревая, шутливо ответил, что вернётся очень скоро.
Балашов уехал. Настя ждала его. Прошло светлое лето, прошла сырая и горькая осень, но Балашов не
возвращался. Нетерпеливое радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. По
деревне шептались, что жених её обманул. Но Настя не верила этому: она была убеждена, что с
Балашовым случилось несчастье.
Настя решила тайком от отца бежать в Ленинград и разыскать там Балашова. Ночью она ушла из
деревушки. Через два дня девушка дошла до железной дороги и узнала на станции, что утром этого дня
началась война. Через огромную грозную страну никогда не видевшая поезда крестьянская девушка
добралась до Ленинграда и разыскала квартиру Балашова.
Насте отворила дверь жена Балашова, худая женщина в пижаме, с папироской в зубах. Она с
недоумением осмотрела Настю и сказала, что Балашов на фронте. Настя узнала, что Балашов был женат.
Значит, он обманул её, посмеялся над её любовью.
Настя убежала. Она шла в отчаянии по величественному городу, превращённому в вооружённый
лагерь, и вышла к Неве. Вот здесь, в этой чёрной воде, должно быть, единственное избавление и от
невыносимой обиды, и от любви.
Настя поправила тяжёлые косы и поставила ногу на завиток перил. Вдруг кто-то схватил её за руку.
Настя обернулась. Позади стоял худой человек с полотёрными щётками под мышкой. Он покачал
головой и сказал:
— В такое время что задумала, дура!
Человек этот — полотёр Трофимов — увёл Настю к себе и передал с рук на руки своей жене-
лифтёрше, женщине шумной и решительной.
Трофимовы приютили Настю. Она долго болела. От лифтёрши Настя впервые услышала, что Балашов
ни в чём не виноват, что никто не обязан знать их северные обычаи. Настя радовалась, что она не
обманута, и всё ещё надеялась увидеть Балашова.
Полотёра вскоре взяли в армию. Когда Настя выздоровела, лифтёрша устроила её на курсы
медицинских сестёр. Врачи — учителя Насти — были поражены её способностью делать перевязки,
ловкостью её тонких и сильных пальцев.
«Да ведь я кружевница», — отвечала она им, как бы оправдываясь.
Весной Настю отправили на фронт. Всюду: в разбитых дворцовых парках, среди развалин, пожарищ, в
блиндажах, на батареях, в перелесках и на полях — она искала Балашова, спрашивала о нём.
На фронте Настя встретила полотёра, и болтливый этот человек рассказал бойцам из своей части о
девушке-северянке, ищущей на фронте любимого человека.
Слух об этой девушке начал быстро расти, шириться, как легенда. Он переходил из части в часть, с
одной батареи на другую. Его разносили мотоциклисты, водители машин, санитары, связисты.
Бойцы завидовали неизвестному человеку, которого ищет девушка, и вспоминали своих любимых. У
каждого были они в мирной жизни, и каждый берёг в душе память о них. Рассказывая друг другу о
девушке-северянке, бойцы меняли подробности этой истории в зависимости от силы воображения.
Слух о Насте дошёл и до береговой батареи, где служил Балашов. Художник тоже был взволнован
историей неизвестной девушки, ищущей любимого, был поражён силой её любви. Он часто думал об
этой девушке и начал завидовать тому человеку, которого она любит. Откуда он мог знать, что завидует
самому себе?
Личная жизнь не удалась Балашову. А вот другим везёт! Всю жизнь он мечтал о большой любви, но
теперь уже было поздно думать об этом.
На висках седина...
Случилось так, что Настя нашла наконец батарею, где служил Балашов, но не нашла Балашова: он был
убит за два дня до того и похоронен в сосновом лесу на берегу залива.
Руднев замолчал.
— Что же было потом?
— Потом? — переспросил Руднев. — А потом было то, что бойцы дрались, как одержимые, и мы
снесли линию немецкой обороны. Мы подняли её на воздух и обрушили на землю в виде пыли и грязи. Я
редко видел людей в таком священном, неистовом гневе.
— А Настя?
— Что Настя! Она отдаёт всю свою заботу раненым. Лучшая сестра на нашем участке фронта.
(По К. Г. Паустовскому*)
*
отечественной литературы.
(1892-1968) — известный русский писатель, классик
Константин Георгиевич Паустовский
Вариант 18
Несомненно, Дюма останется ещё на многие годы любимцем и другом читателей с пылким воображением
и с не совсем остывшей кровью. Но, увы, надолго сохранится и убеждение в том, что большинство его
произведений написаны в слишком тесном сотрудничестве с другими авторами.
Повторять что-нибудь дурное, сомнительное, позорное о людях славы и искусства было всегда
лакомством для критиков и публики. Помню, как в Москве один учитель средней школы на жадные
расспросы о Дюма сказал уверенно:
— Дюма? Да ведь он не написал за всю жизнь ни одной строчки. Он только нанимал романистов и
подписывался за них. Сам же он писать совсем не умел. И даже читал с большим трудом.
Конечно, всякому ясно, что выпустить в свет около пятисот шестидесяти увесистых книг, содержащих в
себе длиннейшие романы и пятиактные пьесы, — дело немыслимое для одного человека, каким бы он ни
был работоспособным, какими бы физическими и духовными силами он ни обладал. Если мы допустим, что
Дюма умудрялся при титанических усилиях писать по четыре романа в год, то и тогда ему понадобилось бы
для полного комплекта его сочинений работать около ста сорока лет самым усердным образом,
подхлёстывая себя неистово сотнями чашек крепчайшего кофе. Да. У Дюма были сотрудники. Например:
Огюст Маке, Поль Мерис, Октав Фейе, Е. Сустре, Жерар де Нерваль, были, вероятно, и другие...
...Но вот тут-то мы как раз и подошли к чрезвычайно сложным, запутанным и щекотливым литературным
вопросам. С самых давних времён весьма много было сказано о вольном и невольном плагиате, об
использовании чужих, хотя бы очень старых, хотя бы совсем забытых, хотя бы никогда не имевших успеха
сюжетов.
Коллективное творчество имеет множество видов, условий и оттенков.
Во всяком случае, на фасаде выстроенного дома ставит своё имя архитектор.
А не каменщик, и не маляры, и не землекопы.
Чарльз Диккенс, которого Достоевский называл самым христианским из писателей, иногда не брезговал
содействием литературных сотоварищей, каковыми бывали даже и дамы-писательницы: мисс Мэльхолланд
и мисс Стрэттон, а из мужчин — Торкбери, Гаскайн и Уилки Коллинз. Особенно последний, весьма
талантливый писатель, имя и сочинения которого до сих пор ценны для очень широкого круга читателей.
распределение совместной работы происходило приблизительно так: Диккенс — прекрасный рассказчик
— передавал иногда за дружеской беседой нить какой-нибудь пришедшей ему в голову или от кого-нибудь
слышанной истории курьёзного или трогательного характера. Потом этот намёк на тему разделялся на
несколько частей, в зависимости от количества будущих сотрудников, и каждому из соавторов, в пределах
общего плана, предоставлялось широкое место для личного вдохновения. Потом отдельные части повести
соединялись в одно целое, причём швы заглаживал опытный карандаш самого Диккенса, а затем общее
сочинение шло в типографский станок. Эти полушутливые вещицы вошли со временем в полное собрание
сочинений Диккенса. Сотрудники в нём переименованы, но вот беда: если не глядеть на фамилии, то
Диккенс сразу бросается в глаза своей вечной прелестью, а его сотоварищей по перу никак не отличишь
друг от друга.
В фабрике Дюма были, вероятно, совсем иные условия и отношения.
Прежде всего надо сказать, что если кто и был в этом товариществе настоящим работником, то, конечно,
он, сорокасильный, неутомимый, неукротимый, трудолюбивейший Александр Дюма. Он мог работать
сколько угодно часов в сутки, от самого раннего утра до самой поздней ночи, иногда и больше.
Из-под пера так и падали с лёгким шелестом бумажные листы, исписанные мелким отличнейшим
почерком, за который Дюма обожали наборщики (кстати, и его восхищённые первочитатели). Говорят, он
пыхтел и потел во время работы, ибо был тучен и горяч. По его бесчисленным сочинениям можно судить,
какое огромное количество требовалось ему сведений об именах, характерах, родстве, костюмах, привычках
действующих персонажей. Разве хватало у него времени просиживать часами в библиотеке, бегать по
музеям, рыться в пыли архивов, разыскивать старые хроники и мемуары и делать выписки из редких
исторических книг? Если в этой кропотливой работе ему помогали друзья (как впоследствии Флоберу), то
оплатить эту услугу было бы одинаково честно и ласковой признательностью, и денежными знаками или,
наконец, и тем и другим.
Правда, Дюма порою мало церемонился с годами, числами и фактами, но во всех лучших его романах
безошибочно чувствуется его собственная, хозяйская, авторская рука. Её узнаёшь и по характерному
искусству диалога, по грубоватому остроумию, по яркости портретов и быта, по внутренней доброте...
Правда и то, что очень часто, особенно в последние свои годы, Дюма прибегал к самому щедрому и самому
бескорыстному сотруднику — к ножницам. Но и здесь, сквозь десятки чужих страниц географического,
этнографического, исторического и вообще энциклопедического свойства всё-таки блистает прежний Дюма,
пылкий, живой, увлекательный, роскошный.
Огюст Маке заявил публичную претензию на Дюма, которому он чем-то помог в «Трёх мушкетёрах».
Оттуда и пошёл разговор о помощниках. Но после первого театрального представления одноимённой пьесы,
Александр
Иванович
Куприн
переделанной из романа и прошедшей с колоссальным успехом, Дюма, под бешеные аплодисменты и крики,
насильно вытащил упиравшегося Маке к рампе, потребовал молчания и сказал своим могучим голосом:
— Вот Огюст Маке, мой друг и сотрудник. Ваши лестные восторги относятся одинаково и к нему, и ко
мне.
И у Маке потекли из глаз слёзы.
(По А. И. Куприну*)
* (1870-1938) — русский писатель, переводчик.
Вариант 19
В доме, боярина Никиты Филимоныча Крутоярского дым стоял коромыслом.
Боярышня Уленька Крутоярская нарядила всех своих сенных девушек-служанок в разные наряды
скоморошеские: кого медведицей, кого козой, кого важной боярыней, кого торговкой из плодовых рядов,
что в Китай-городе, и теперь тешилась с ними разными играми под заливчатый, звонкий девичий хохот.
Самой весёлой и изобретательной была любимая наперсница боярышни — черноокая Матрёша, которая,
забавно переваливаясь с ноги на ногу, стала изображать Мишку Топтыгина, отправляющегося за мёдом на
пчельник. Развеселилась даже сама боярыня. Впервые за долгие месяцы улыбнулась она нынче, впервые
отлегло от сердца и прояснилось в душе её после бесконечных тревог и волнений.
Тяжёлое время переживала в те годы вся Русь. Озлобленный на бояр старинных знатных родов царь
Иоанн Васильевич, прозванный впоследствии Грозным, устроил целое гонение подчас на лучших людей.
Окружив себя опричниною, этою страшною ордою телохранителей, которую он набрал из самых
«худородных» людей, ненавидящих знатных родовитых бояр, царь Иоанн Васильевич начал с её помощью
всячески истреблять старинные боярские роды. Опричники под начальством вероломного Малюты
Скуратова, царёва любимца, собирали всевозможные клеветы про ненавистных им бояр и доносили царю о
несуществующих винах последних...
Вдруг сквозь громкий хор затейниц-девушек послышался стук у ворот, сильный, настойчивый, и белее
стены белёной появился на пороге молодой холоп.
— Боярыня-матушка! Спасайтесь! Хозяина нашего в тюрьму бросили!
А сейчас за тобой и боярышней поганые опричники сюда явятся с самим злодеем Малютою во главе!
Грозное известие сразило всех, лишило силы двигаться, соображать, слово единое молвить. Лишь
Матрёша, одна не растерявшаяся среди всех находившихся в тереме женщин, бросилась к укладке, в
которой находилось верхнее платье боярыни, вытащила оттуда тяжёлый кафтан и надела его на плечи
госпоже. Потом так же ловко и живо закутала и боярышню и повела их с няней Степанидою и двумя
другими сенными девушками из терема в сени, а оттуда на задний двор, где уже слышалось ржанье и
фырканье нетерпеливых коней. Едва лишь успела усадить в кибитку своих хозяек Матрёша и вернуться
обратно в терем, как услышала громкие голоса и могучие удары кнутовищ и здоровенных кулаков в
бревенчатые ворота.
Быстро бросилась она в соседнюю горницу и появилась вскоре на пороге терема в наряде и драгоценных
украшениях боярышни Уленьки.
— Слушайте же, девоньки, выдавайте меня все за хозяюшку нашу, светика нашего — боярышню, чтобы
истинный след их замести, чтобы дать укрыться без помехи нашим голубушкам.
С дикими гиканьями, свистками ворвались опричники во двор бояр Крутоярских.
Впереди всех был Малюта Скуратов: страшный, угрюмый, зверски жестокий, с маленькими
пронырливыми, бегающими глазками, он первый распахнул дверь и вбежал в терем.
— Ты кто такая? — крикнул он поднявшейся навстречу ему Матрёше, пышный наряд и красивое личико
которой сразу привлекли его внимание.
— 3дравствуй, боярин, — с низким поклоном и приветливой улыбкой отвечала она. — Я боярышня
Ульяна Крутоярская. Рады-радёхоньки тебе, гость дорогой. Чем потчевать тебя велишь-прикажешь?
Матушка моя боярыня, вишь, обмерла, лежит у себя в тереме, так позволь мне тебя встретить всем тем, чего
твоя душенька пожелает.
Злодей Малюта опешил, услышав такие слова, что-то дрогнуло в ожесточённом сердце Малюты. Но
совсем уж растаял Малюта, когда девушка предложила ему потешить его и примчавшихся с ним опричников
пляской.
Она особенно хорошо плясала в тот вечер, так хорошо, что Малюта не выдержал и сказал, опуская ей на
плечо свою тяжёлую волосатую руку:
— Ну, хозяюшка, ставь свечу пудовую празднику Рождества Христова. Никто меня из крамольников
среди бояр не встречал так доселе. А за это, боярышня, вызволю я твоего отца, упрошу надёжу-государя его
помиловать. Благодари Бога, девушка, что наградил он тебя такой весёлой да ласковой душой.
Малюта сдержал своё слово, данное в праздник Рождества Христова. Боярина Крутоярского выпустили
из тюрьмы, сослали только в дальнюю вотчину. Боярыня с боярышней Уленькой отправились с ним в
ссылку. Нечего и говорить, что верная Матрёша, спасшая своих господ, поехала туда же вместе с ними и не
раз скрашивала их тяжёлые дни весёлой шуткой да звонкой песней.
(По Л. А. Чарской*)
*
и актриса.
(настоящая фамилия Чурилова, 1875-1937) — русская детская писательница
Лидия Алексеевна Чарская
Вариант 20
Борис Леонидович Пастернак
По международной конвенции о Красном Кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют
права участвовать в боевых действиях воюющих с оружием в руках. Но однажды доктору против воли
пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка застала его на поле и заставила разделить судьбу
сражающихся и отстреливаться.
Белые шли, наступая. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из
невоенных слоёв столичного общества и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали
первые, молодёжь, студенты- первокурсники и гимназисты-восьмиклассники, недавно записавшиеся в
добровольцы.
Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими.
Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным,
вызывающим. Они шли рассыпным редким строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой
кадровых гвардейцев, и, бравируя опасностью, не прибегали к перебежке и залеганию на поле, хотя на
поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться. Пули партизан почти
поголовно выкашивали их.
Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Всё его сочувствие было на стороне
героически гибнувших белогвардейских детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств,
вероятно близких ему по духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятий.
Однако созерцать и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на жизнь, а на смерть
было немыслимо и выше человеческих сил. Шёл бой. Надо было отстреливаться.
И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом замер, Юрий Андреевич ползком
подтянулся к нему, взял его винтовку и, вернувшись на прежнее место, стал разряжать её выстрел за
выстрелом.
Жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал.
И, выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять
в цель по обгорелому дереву.
Наконец белое командованйе, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ отступить.
Фельдшер привёл на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им заняться ранеными, а сам
подошёл к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, ещё дышит и
его можно будет вернуть к жизни. Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его
сердце. Оно не работало.
На шее у убитого висела ладанка на шнурке. Юрий Андреевич снял её.
В ней оказалась зашитая в тряпицу, истлевшая и стёршаяся по краям сгибов бумажка.
Она содержала извлечения из девяностого псалма с теми изменениями и отклонениями, которые вносит
народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника. Отрывки церковнославянского текста были
переписаны в грамотке по-русски.
В псалме говорится: «Живый в помощи Вышнего». В грамотке это стало заглавием заговора: «Живые
помощи». Стих псалма: «Не убоишися... от стрелы летящия во дни» — превратился в слова ободрения: «Не
бойся стрелы летящей войны». «С ним есмь в скорби, изму его...» стало в грамотке «Скоро в зиму его».
Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль.
От телефониста Юрий Андреевич перешёл на поляну к телу убитого молодого белогвардейца. На
красивом лице юноши были написаны черты невинности и всё простившего страдания. «3ачем?» — подумал
доктор.
Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул её полы.
Сквозь пройму рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу крестик, медальон и ещё какой-
то плоский золотой футлярчик. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка.
Доктор развернул её и глазам своим не поверил. Это был тот же девяностый псалом, но в печатном виде и во
всей своей славянской подлинности.
(По Б. Л. Пастернаку*)
(1890-1960) — поэт, писатель, переводчик, лауреат
Нобелевской премии по литературе за роман «Доктор Живаго».
Вариант 21
Константин Георгиевич Паустовский
На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой.
На каждой бутылке была наклейка. На наклейках кривым старческим почерком было написано: «Вода из
Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря».
Бутылок было много. Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково
жёлтая и скучная на вид.
Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мёртвого
моря. Нам хотелось узнать, действительно ли она такая солёная. Но пробовать воду Черпунов не позволял.
Старшеклассники рассказывали, что на квартире у Черпунова устроен небольшой географический музей,
но старик к себе никого не пускает. Там были будто бы чучела колибри, коллекция бабочек, телескоп и даже
самородок золота.
Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. Он был, конечно, небогатый, но расцветал в
моём воображении как царство удивительных вещей. Разнообразные истории были связаны с каждой вещью
— будь то пуговица румынского солдата или засушенный жук-богомол.
Однажды я встретил Черпунова в Ботаническом саду.
Пойди сюда! — подозвал меня Черпунов и протянул толстую руку. —
Садись, рассказывай. Ты, говорят, собрал маленький музей. Что у тебя есть?
Я робко перечислил свои незамысловатые ценности. Черпунов усмехнулся.
Похвально! — сказал он. — Приходи ко мне в воскресенье утром.
Посмотришь мой музей.
В воскресенье я надел новенький гимназический костюм и пошёл к Черпунову.
Была поздняя осень, но сирень ещё не пожелтела. С листьев стекал туман. Внизу на Днепре трубили
пароходы. Я поднялся на крыльцо и потянул рукоятку звонка. Внутри флигеля пропел колокольчик.
Встречать меня вышел сам Черпунов.
Чудеса начались уже в передней. В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький
гимназист, пытавшийся расстегнуть озябшими пальцами шинель. Я не сразу понял, что этот гимназист — я
сам. Я расстёгивал пуговицы и смотрел на раму от зеркала.
Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных листьев, цветов и гроздьев винограда.
Венецианское стекло, — сказал Черпунов. — Посмотри поближе. Можешь даже потрогать.
Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. Стекло было матовое, будто присыпанное пудрой. В
полоске света, падавшей из соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнём.
Совсем как рахат-лукум, — заметил я.
Черпунов показал мне на портрет на стене. Он изображал бородатого человека с измождённым лицом.
Ты знаешь, кто это? Один из лучших русских людей. Путешественник Миклухо-Маклай. Он был великий
учёный и верил в добрую волю людей. Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее. Безоружный,
умирающий от лихорадки. Но он сумел сделать столько добра дикарям и проявить столько терпения, что,
когда за ним пришёл наш корвет «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы дикарей плакали на берегу,
протягивали к корвету руки и кричали: «Маклай, Маклай!» Так вот, запомни: добротой можно добиться
всего.
Потом Черпунов показал мне звёздный глобус, старые карты с «розой ветров», чучела колибри с
длинными, как маленькие шила, клювами.
Ну, на сегодня довольно, — сказал Черпунов. — Ты устал. Можешь приходить ко мне по воскресеньям.
В следующее воскресенье я не пошёл к учителю, потому что среди недели он заболел и перестал ходить в
гимназию.
Совсем скоро учитель умер.
Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, говоря нам о плодотворной силе
воображения, неожиданно спросил:
Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей?
Ну как же! — ответили мы. — Великолепно помним.
Так вот, могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водопроводная вода. Вы спросите,
зачем Черпунов вас обманывал? Он справедливо полагал, что таким путём даёт толчок развитию вашего
воображения. Черпунов очень ценил его. Несколько раз он упоминал при мне, что человек отличается от
животного способностью к воображению. Воображение создало искусство. Оно раздвинуло границы мира и
сознания и сообщило жизни то свойство, что мы называем поэзией.
(По К. Г. Паустовскому*)
отечественной литературы.
(1892—1968) — известный русский писатель, классик
Вариант 22
Вениамин Александрович Каверин
Накануне вечером комиссар вызвал Корнева и Тумика в свою каюту и заговорил об этой батарее,
дальнобойной, которая обстреливала передний край и глубину и которая всем давно надоела.
— Мы несём от неё немалые потери, — сказал он, — и, кроме того, она мешает одной задуманной
операции. Нужно эту батарею уничтожить.
Потом он спросил, что они думают о самопожертвовании, потому что иначе её нельзя уничтожить. Он
спросил не сразу, а начал с подвига двадцати восьми панфиловцев, которые отдали за Отчизну свои молодые
жизни. Теперь этот вопрос стоит перед ними — Корневым и Тумиком — как лучшими разведчиками,
награждёнными орденами и медалями.
Тумик первый сказал, что согласен. Корнев тоже согласился, и решено было высадиться на берег в девять
часов утра. По ночам немцы пускали ракеты, хотя стоял декабрь и днём было так же темно, как и ночью.
Времени вдруг оказалось много, и можно было полежать и подумать, тем более что это, наверное, уже в
последний раз, а больше, пожалуй, не придётся.
Тумик воевал уже полтора года и дважды был ранен. Он участвовал в захвате знаменитой сопки
«Колпак», когда восемьдесят моряков семь часов держались против двух батальонов, и боезапас кончился, и
моряки стали отбиваться камнями. Как вчера, он видел перед собой маленький дом, крыльцо с
провалившейся ступенькой и отца в саду — коротко стриженного, седого, с худым носом и ещё такого
стройного, ловкого, когда он быстро шёл навстречу гостям, опираясь на трость, в своей кубанке набекрень и
со своими тремя орденами.
Когда началась война, он прислал Тумику письмо: «Воюй и за себя, и за меня».
Тут Тумик вспомнил всю свою жизнь, самое главное, самое интересное в жизни. Отец — это был родной
дом, детство и школа, девушка Шура — это была любовь, а Миша Рубин — друг, который всегда говорил,
что, может быть, и есть на свете любовь, но верно то, что на свете есть настоящая дружба навеки.
Они были с ним всю войну — отец, та девушка и Миша — и были теперь, когда он лежал на своей койке
под иллюминатором и слышно было, как волна, плеща, набегает на борт. Это была его Отчизна!
И вдруг всё стало так ясно для него, что он даже присел на койке, обхватив руками колени.
Недаром же я жил на земле, — сказал он себе.
Он видел, как при свете огарка Корнев пишет письмо, и ему хотелось сказать Корневу, что нет для них
смерти и что для них пришла эта торжественная, последняя ночь, когда замер весь свет и только под лёгким
ветром волна, плеща, набегает на борт. Но он ничего не сказал. У Корнева были жена и маленький сын.
Он писал им, и кто знает, о чём он думал сейчас, хмуря крупные чёрные брови...
Утром они с первого взгляда поняли, что нельзя заложить тол и уйти: батарея работала, и кругом было
слишком много народу. Можно было только сделать, как сказал комиссар: подорвать её и самим
подорваться. И это было легко: неподалёку от батареи штабелями лежали снаряды.
Они стали тянуть жребий, потому что достаточно было подорваться одному, а другой мог вернуться к
своим. Они условились: вернётся тот, кто вытащит целую спичку. И Тумик взял в обе руки две целые
спички и сказал шёпотом:
Ну, Корнев, тащи.
У Корнева были жена и маленький сын...
Они обнялись, поцеловались. На прощание Тумик отдал Корневу свою фотографию, где был снят с
автоматом, лёжа, прицеливаясь, — ребята говорили, что вышел отлично. И Корнев ушёл. Он был метрах в
сорока от батареи, когда раздался взрыв и пламя взметнулось до самого неба, осветив пустынный край: снег
и тёмные ущелья. Дикие скалы. И небо Отчизны...
(По В. А. Каверину*)
(1902-1989) — русский советский писатель, драматург и
сценарист, автор приключенческого романа «Два капитана».
Вариант 23
Александр Грин
Наконец я приехал в Одессу. Этот огромный южный порт был для моих шестнадцати лет дверью мира,
началом кругосветного плавания, к которому я стремился, имея весьма смутные представления о морской
жизни.
Я проводил дни на улицах, рассматривая витрины или бродя в порту, где на каждом шагу открывал
Америку. 3десь бился пульс мира.
«Береговой командой» были матросы, кочегары и другие мелкие служащие, почему-либо неспособные
временно находиться на корабле. Можно здесь было встретить также отставшего от рейса молодого матроса
или живущего в ожидании места какого-нибудь старого служащего.
Отсюда-то и совершал я свои путешествия в порт, упиваясь музыкой рёва и грома, свистков и криков,
лязга вагонов на эстакаде и звона якорных цепей, а также голубым заревом свободного синего Чёрного моря.
Я жил в полусне новых явлений. Тогда один случай, может быть незначительный в сложном обиходе
человеческих масс, наполняющих тысячи кораблей, показал мне, что я никуда не ушёл, что я не в
преддверии сказочных стран, полных беззаветного ликования, а среди простых, грешных людей.
В казарму привезли раненого. Это был молодой матрос, которого товарищ ударил ножом в спину.
Поссорились они или не поделили чего-нибудь — этого я не помню. У меня только осталось впечатление,
что правда на стороне раненого, и я помню, что удар 'был нанесён внезапно, из-за угла. Уже одно это
направляло симпатии к пострадавшему. Он рассказывал о случае серьёзно
и кратко, не выражая обиды и гнева, как бы покоряясь печальному приключению.
Рана была не опасна. Температура немного повысилась, но больной, хотя и лежал, ел с аппетитом и даже
играл в карты с соседями.
Вечером раздался слух: «Доктор приехал, говорить будет».
Доктор? Говорить? Я направился к койке раненого.
Доктор, пожилой человек, по-видимому сам лично принимающий горячее участие во всей этой истории,
сидел возле койки. Больной, лёжа, смотрел в сторону и слушал.
Доктор, стараясь не быть назойливым, осторожно и мягко пытался внушить раненому сострадание к
судьбе обидчика. Он послан им, пришёл по его просьбе.
У него жена, дети, сам он военный матрос. Он полон раскаяния. Его ожидают каторжные работы.
Вы видите, — сказал доктор в заключение, — что от вас зависит, как поступить: «по закону» или «по
человечеству». Если «по человечеству», то мы замнём дело. Если же «по закону», то мы обязаны начать
следствие, и тогда этот человек погиб, потому что он виноват.
Была полная тишина. Все мы, сидевшие, как бы не слушая, по своим койкам, но не проронившие ни
одного слова, замерли в ожидании. Что скажет раненый? Какой приговор изречёт он? Я ждал, верил, что он
скажет: «По человечеству». На его месте следовало простить. Он выздоравливал. Он был лицом типичный
моряк, а «моряк» и «рыцарь» для меня тогда звучало неразделимо. Его руки до плеч были татуированы
фигурами тигров, змей, флагов, именами, лентами, цветами и ящерицами. От него несло океаном, родиной
больших душ. И он был так симпатично мужествен, как умный атлет...
Раненый помолчал. Видимо, он боролся с желанием простить и с каким-то ядовитым воспоминанием. Он
вздохнул, поморщился, взглянул доктору в глаза и нехотя, сдавленно произнёс:
Пусть... уж... по закону.
Доктор, тоже помолчав, встал.
3начит, «по закону»? — повторил он.
По закону. Как сказал, — кивнул матрос и закрыл глаза.
Я был так взволнован, что не вытерпел и ушёл на двор. Мне казалось, что у меня что-то отняли.
С этого дня я стал присматриваться к морю и морской жизни с её внутренних, настоящих сторон, впервые
почувствовав, что здесь такие же люди, как и везде, и что чудеса — в самих нас.
(По А. Грину*)
(настоящее имя — Александр Степанович Гриневский, 1880-1932) — русский
писатель-прозаик и поэт, представитель неоромантизма.
Вариант 24
Алексей Николаевич Толстой
В мирные годы человек, в довольстве и счастье, как птица, купающаяся в небе, может далеко отлететь от
гнезда и даже покажется ему, будто весь мир — его родина. Иной человек, озлобленный горькой нуждой,
скажет: «Что вы твердите мне: родина! Что видел я хорошего от неё, что она мне дала?»
Но надвинулась общая беда. Враг разоряет нашу землю и всё наше вековечное хочет назвать своим. Тогда
и счастливый, и несчастный собираются у своего гнезда.
Даже и тот, кто хотел бы укрыться, как сверчок, в тёмную щель и посвистывать там до лучших времён, и
тот понимает, что теперь нельзя спастись в одиночку.
Гнездо наше, родина возобладала над всеми нашими чувствами.
И всё, что мы видим вокруг, что раньше, быть может, мы и не замечали, не ценили, как пахнущий
ржаным хлебом дымок из занесённой снегом избы, — теперь пронзительно дорого нам.
Родина — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он
верит и которое создаёт своими руками для себя и своих поколений. Это вечно отмирающий и вечно
рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и
непоколебимую веру в законность и нерушимость своего места на земле.
3емля оттич и дёдич — это те берега полноводных рек и лесные поляны, куда пришёл наш пращур жить
навечно. Он был силён и бородат, в посконной длинной рубахе, солёной на лопатках, смышлён и
нетороплив, как вся дремучая природа вокруг него. Многое мог увидеть пращур, из-под ладони глядя
вокруг... «Ничего, мы сдюжим», — сказал он и начал жить. Росли и множились позади него могилы отцов и
дедов, рос и множился его народ. Дивной вязью он плёл невидимую сеть русского языка; яркого, как радуга
вслед весеннему ливню, меткого, как стрелы, задушевного, как песня над колыбелью, певучего и богатого.
Он назвал все вещи именами и воспел всё, что видел и о чём думал, и воспел свой труд. И дремучий мир, на
который он накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь, и стал его достоянием, и
для потомков его стал родиной — землёй оттич и дёдич.
Русский народ создал огромную устную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, весёлые и
печальные обрядовые песни, торжественные былины, героические, волшебные, бытовые и пересмешные
сказки. Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и
умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью,
праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь,
текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов.
Недаром пращур плёл волшебную сеть русского языка: вся широкая, творческая, страстная, взыскующая
душа народа русского нашла отражение в нашем искусстве XIX века. Оно стало мировым и во многом
повело за собой искусство Европы и Америки.
Русская наука дала миру великих химиков, физиков и математиков.
Первая паровая машина была изобретена в России, так же как и вольтова дуга, беспроволочный телеграф
и многое другое.
Пращур наш, наверное, различил в дали веков эти дела народа своего и сказал тогда на это: «Ничего, мы
сдюжим...» На каждом из нас лежит ответственность за нашу Родину, за сохранение наследства нашего
народа, сильного, свободолюбивого, правдолюбивого, умного и не обиженного талантом.
(По А. Н. Толстому*)
(1882-1945) — русский советский писатель и общественный деятель,
автор социальных, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов.
Вариант 25
Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни одно из них
не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайловское.
Летний праздник бывает в Михайловском каждый год в день рождения Пушкина. Сотни колхозных телег,
украшенных лентами и валдайскими бубенцами, съезжаются на луг за Соротью, против пушкинского парка.
Все местные колхозники гордятся земляком Пушкиным и берегут заповедник, как свои огороды и поля.
В Тригорском парке я несколько раз встречал высокого человека. Он бродил по глухим дорожкам,
останавливался среди кустов и долго рассматривал листья. Иногда срывал стебель травы и изучал его через
маленькое увеличительное стекло.
Как-то около пруда меня застал крупный дождь. Я спрятался под липой, и туда же не спеша пришёл
высокий человек. Мы разговорились. Человек этот оказался учителем географии из Череповца.
Вы, должно быть, не только географ, но и ботаник? — сказал я ему. —
Я видел, как вы рассматривали растения.
Высокий человек усмехнулся.
Нет, я просто люблю искать в окружающем что-нибудь новое. 3десь я уже третье лето, но не знаю и
малой доли того, что можно узнать об этих местах.
Второй раз мы встретились на берегу озера Маленец, у подножия лесистого холма. Высокий человек
лежал в траве и рассматривал сквозь увеличительное стекло голубое перо сойки. Я сел рядом с ним, и он
рассказал мне историю своей привязанности к Михайловскому.
Мой отец служил бухгалтером в больнице в Вологде. В общем, был жалкий старик — пьяница и хвастун.
Даже во время самой отчаянной нужды он носил застиранную крахмальную манишку, гордился своим
происхождением. Нас было шестеро детей. Жили мы все в одной комнате, в грязи и беспорядке.
Когда отец выпивал, он начинал читать стихи Пушкина и рыдать.
Слёзы капали на его крахмальную манишку, он мял её, рвал на себе и кричал, что Пушкин — это
единственный луч солнца в жизни таких несчастных нищих, как мы. Он не помнил ни одного пушкинского
стихотворения до конца. Он только начинал читать, но ни разу не окончил. Это меня злило, хотя мне было
тогда всего восемь лет. Я решил прочесть пушкинские стихи до конца и пошёл в городскую библиотеку. Я
долго стоял у дверей, пока библиотекарша не окликнула меня и не спросила, что мне нужно.
Пушкина, — сказал я грубо.
Ты хочешь сказки? — спросила она.
Нет, не сказки, а Пушкина, — повторил я упрямо.
Она дала мне толстый том. Я сел в углу окна, раскрыл книгу и заплакал. Я заплакал потому, что только
сейчас, открыв книгу, я понял, что не могу прочесть её, что я совсем ещё не умею читать и что за этими
строчками прячется заманчивый мир, о котором рыдал пьяный отец. Со слов отца я знал тогда наизусть
всего две пушкинские строчки: «Я вижу берег отдалённый, земли полуденной волшебные края», но этого
для меня было довольно, чтобы представить себе иную жизнь, чем наша.
(ЗЭ)Вообразите себе человека, который десятки лет сидел в одиночке. Наконец ему устроили побег,
достали ключи от тюремных ворот, и вот он, подойдя к воротам, за которыми свобода, и люди, и леса, и
реки, вдруг убеждается, что не знает, как этим ключом открыть замок. Громадный мир шумит всего в
сантиметре за железными листами двери, но нужно знать пустяковый секрет, чтобы открыть замок, а секрет
этот беглецу неизвестен. Он слышит тревогу за своей спиной, знает, что его сейчас схватят и что до смерти
будет то же, что было: грязное окно под потолком камеры и отчаяние. Вот примерно то же самое пережил я
над томом Пушкина.
С тех пор я полюбил Пушкина. Вот уже третий год приезжаю в Михайловское...
На вершине холма, у обветшалых стен собора, над крутым обрывом, в тени лип, на земле, засыпанной
пожелтевшими лепестками, белеет могила Пушкина. Короткая надпись «Александр Сергеевич Пушкин»,
безлюдье, стук телег внизу под косогором и облака, задумавшиеся в невысоком небе, — это всё. 3десь конец
блистательной, взволнованной и гениальной жизни. 3десь тот «милый предел», о котором Пушкин говорил
ещё при жизни. И здесь, на этой простой могиле, куда долетают хриплые крики петухов, становится
особенно ясно, что Пушкин был первым народным поэтом.
(По К. Г. Паустовскому*)
отечественной литературы.
(1892-1968) — известный русский писатель, классик
Константин Георгиевич Паустовский
Вариант 26
На окраине села, возле издолблённой осколками, пробитой снарядами колхозной клуни , крытой соломой,
толпился народ. У широко распахнутого входа в клуню нервно перебирали ногами тонконогие
кавалерийские лошади, запряжённые в крестьянские дровни. И откуда-то с небес или из-под земли звучала
музыка, торжественная, жуткая, чужая. Приблизившись к клуне, пехотинцы различили, что народ возле
клуни толпился непростой: несколько генералов, много офицеров и вдруг обнаружился командующий
фронтом.
— Ну занесла нас нечистая сила... — заворчал комроты Филькин.
У Бориса Костяева похолодело в животе, потную спину скоробило: командующего, да ещё так близко, он
никогда не видел. Взводный начал торопливо поправлять ремень, развязывать тесёмки шапки. Пальцы не
слушались его, дёрнул за тесёмку — с мясом оторвал её. Он не успел заправить шапку ладом. Майор в
жёлтом полушубке, с портупеей через оба плеча, поинтересовался, кто такие.
Комроты Филькин доложил.
Следуйте за мной! — приказал майор.
Командующий и его свита посторонились, пропуская мимо себя мятых, сумрачно выглядевших солдат-
окопников. Командующий прошёлся по ним быстрым взглядом и отвёл глаза. Сам он хотя и был в чистой
долгополой шинели, в папахе и поглаженном шарфе, выглядел среди своего окружения не лучше солдат,
только что вылезших с переднего края. Глубокие складки отвесно падали от носа к строго сжатым губам.
Лицо его было воскового цвета, смятое усталостью.
И в старческих глазах, хотя он был ещё не старик, далеко не старик, усталость, всё та же безмерная
усталость. В свите командующего слышался оживлённый говор, смех, но командующий был сосредоточен
на своей какой-то невесёлой мысли.
И всё звучала музыка, хрипя, изнемогая, мучаясь.
По фронту ходили всякого рода легенды о прошлом и настоящем командующего, которым солдаты
охотно верили, особенно одной из них. Однажды он якобы напоролся на взвод пьяных автоматчиков и не
отправил их в штрафную, а долго вразумлял.
Вы поднимитесь на цыпочки — ведь Берлин уж видно! Я вам обещаю: как возьмём его — пейте сколько
влезет! А мы, генералы, вокруг вас караулом стоять будем! 3аслужили! Только дюжьте, дюжьте...
Что это? — поморщился командующий. — Да выключите вы музыку!
Следом за майором стрелки вошли в клуню, проморгались со свету...
На снопах белой кукурузы, засыпанной трухой соломы и глиняной пылью, лежал погибший немецкий
генерал в мундире с яркими колодками орденов, тусклым серебряным шитьём на погонах и на воротнике. В
углу клуни, на опрокинутой веялке, накрытой ковром, стояли телефоны, походный термос, маленькая рация
с наушниками. К веялке придвинуто глубокое кресло с просевшими пружинами, а на нём — скомканный
клетчатый плед, похожий на русскую бабью шаль.
Возле генерала стоял на коленях немчик в кастрюльного цвета шинели, в старомодных, антрацитно
сверкающих ботфортах, в пилотке, какую носил ещё Швейк, только с пришитыми меховыми наушниками.
Перед ним, на опрокинутом ящике, хрипел патефон, старик немец крутил ручку патефона, и по лицу его
безостановочно катились слёзы...
Командующий с досадой шмыгнул носом. Повелительно приказал:
Схоронить генерала, павшего на поле боя, со всеми воинскими почестями: домовину, салют и прочее.
Хотя прочего не можем, — командующий отвернулся, опять пошмыгал носом. — Панихиду по нему в
Германии справят. Много панихид.
Кругом сдержанно посмеялись.
Его собакам бы скормить за то, что людей стравил. 3а то, что Бога забыл.
Какой тут Бог? — поник командующий, утирая нос рукавицей. — Если здесь не сохранил, — потыкал он
себя рукавицей в грудь, — нигде больше не сыщешь.
Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от которого веяло спокойной, устоявшейся силой,
давал такой пример благородного поведения, но в последних словах командующего просквозило такое
запёкшееся горе, такая юдоль человеческая, что ясно и столбу сделалось бы, умей он слышать: игра в
благородство, агитационная иль ещё какая показуха, спектакли неуместны после того, что произошло вчера
ночью и сегодняшним утром здесь, в этом поле, на этой горестной земле. Командующий давно отучен
войной притворяться, выполнял он чей-то приказ, и всё это было ему не по нутру, много других забот и
неотложных дел ждало его, и он досадовал, что его оторвали от этих дел. Мёртвых и пленных генералов он,
должно быть, навидался вдосталь.
Командующий что-то буркнул, резко отвернулся, натянул папаху на уши и, по-крестьянски бережно
подоткнув полы шинели под колени, устроился в санях.
Что-то взъерошенное и в то же время бесконечно скорбное было в узкой и совсем не воинственной спине
командующего, и даже в том, как вытирал он однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, виделась
человеческая незащищённость.
Так и не обернувшись больше, он поехал по полю. Сани качало и подбрасывало на бугорках, полозьями
обнажало трупы.
Кони вынесли пепельно-серую фигуру командующего на танковый след и побежали бойчее к селу, где
уже рычали, налаживая дорогу, тракторы и танки. И когда за сугробами скрылись лошади и тоскливая
фигура командующего, все долго подавленно молчали.
(По В.П. Астафьеву*)
Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) — советский и российский писатель, драматург, эссеист.
Вениамин Александрович Каверин
Вариант 27
Его соседи по госпиталю получали письма и читали их вслух, а Власову никто не писал, и ему было так
скучно, что он даже удивлялся, что может быть на свете такая скука.
С каждым днём ему становилось всё хуже. Бледный, с заострившимся носом, он лежал, отвернувшись к
стене, и ему было всё равно, о чём говорят, волнуются, спорят соседи.
И вдруг он получил письмо. Это был обыкновенный лист бумаги, сложенный треугольником, и на
обороте, как полагается, полный адрес с именем, отчеством и фамилией.
«Мне захотелось написать тебе, милый Федя, — так начиналось это письмо, — хотя ты, без сомнений,
давно забыл обо мне, поскольку мы в жизни встретились только однажды. Но, узнав, что ты ранен, я
надеюсь, что ты не слишком строго осудишь меня за это письмо...» А кончалось письмо на полуфразе: «Во
всяком случае, знай, что я о тебе думаю, и даже чаще, чем...»
Он читал письмо целый день, перебрал всех знакомых девушек и прежде всего, понятно, вспомнил о той,
с которой он дружил до войны. Но это была не она, хотя бы потому, что с ней он встречался не однажды.
Прошло несколько дней, и он получил второе письмо.
«Мне известно всё от одной подруги, которая видит тебя каждый день, — писала незнакомка. — И она
сказала мне, что от тебя самого зависит твоё здоровье».
Далыпе шли советы, большей частью медицинского свойства, а потом стихи, очень хорошие, об одной
девушке, ждущей бойца, который пропал без вести.
Это было поразительно! Но кто же видит его каждый день? В тридцатой палате дежурили две сестры —
Мария Пантелеймоновна и Луша. Мария Пантелеймоновна была рыжая, длинная, в ойках, немного похожая
на швабру палкой вниз, особенно когда она ругала кого-нибудь после обхода. Луша была, наоборот,
маленькая, толстая, смешливая, целый день носилась по госпиталю в развевающемся халате, и то здесь, то
там слышались её топот и хохот. Но Власову было бы даже немного жаль, если бы этой подругой оказалась
она. Письма были таинственные, необыкновенные, а Луша — просто Луша.
С волнением, с душевной тревогой он стал ожидать новых писем, а главное, послушался насчёт своего
здоровья. Прежде он мало ел, а теперь стал понемногу есть, с вечера постарался уснуть — и ничего,
получилось.
Пришло третье письмо: как по книге, эта девушка-незнакомка прочитала всё, что творилось в его душе,
всё, о чём он мечтал и что казалось ему потерянным навсегда, невозвратно. Всё ещё впереди — вот что она
хотела сказать! Нужно жить, потому что всё впереди. Нужно сделать всё, чтобы снова стоять на боевом
корабле в этот торжественный час. И нужно не отступать перед тоской, перед смертью, о которой кричат по
ночам галки в саду, нужно не отступать, как он не отступал на фронте...
Точно что-то перевернулось в его душе, когда он прочитал это письмо.
И доктор, который прежде всё хмурился, осматривая его, был теперь совершенно доволен.
Кто его знает! — сказал он как-то, смеясь. — Ведь ты же умирал, Власов. В чём дело, а? 3агадка
природы?
Но вдруг перестали приходить эти чудные письма. А вместе с письмами пропала и Луша. Он спросил у
одной сиделки, где она, почему не приходит, и сиделка сказала, что Луша сильно захворала воспалением
лёгких, к ней даже ездил главный врач, и боялись, что она умрёт, но опасность миновала.
В госпитале стало скучно без Луши, без её топота и хохота, без её разговора о том и о сём, от которого
почему-то становилось легче на сердце...
Луша явилась, побледневшая и похудевшая, но, кажется, ещё более весёлая, чем прежде. И на площадке,
куда ребята выходили курить, Власов просто схватил её за рукав и спросил негромко:
Так это ты, Лушенька?..
Через неделю Власов пошёл на комиссию, и доктора, осматривая его, снова сказали, что он является
чудом и загадкой природы. Разгадка была простая, но он, понятно, не стал её объяснять. Возможно, что для
подобного лечения в медицине ещё не было места.
(По В. А. Каверину*)
(1902-1989) — русский советский писатель, драматург и сценарист,
автор приключенческого романа «Два капитана».
Вариант 28
Лучше всего Левитана можно понять и крепче всего полюбить в глубинах страны, столкнувшись лицом к
лицу со всем, что было его поэзией.
Первая «встреча» с Левитаном произошла у меня в Третьяковской галерее.
Но более всего запомнилась ещё одна из многочисленных, если можно так сказать, «внутренних» встреч с
художником. Этих встреч на самом деле не было, но часто возникало ощущение, что Левитан был только
что здесь, что, конечно, только он мог показать нам те великолепные уголки страны, которые сияют в
бледной синеве неба, молчат вместе с безветренными водами рек и озёр и откликаются эхом на крики
кочующих птиц.
Эта встреча случилась в лесистой и пустынной стороне невдалеке от Москвы.
Места были глухие, почти бездорожные. Мне пришлось ехать в телеге и переправляться через лесные
реки на паромах.
Кончалась весна. Зеленоватое ночное небо слабо светилось над серыми лесами. Воздух был пропитан
холодноватым запахом мокрых доцветающих трав.
Я уснул в телеге. Проснулся я оттого, что телега, заскрипев, остановилась на песчаном спуске к реке и
возница лениво закричал:
Эй, Семён, давай перевоз!
Ладно, ладно! — ответил из тумана хриплый голос. — Тоже торопыга нашёлся. Всех птах мне
распугаешь. Невежа и есть невежа!
Во беда! — шутливо сказал возница. — Хоть не езди через этот чёртов паром, через Птичий угол. Тут
верно — соловьиное царство!
Мы помолчали. 3а рекой в чёрных ночных вершинах деревьев начинало светать.
Слабый и чистый свет зари появился в небе. Низко, над самым краем земли, висел прозрачный слабый
месяц. «Вот — Левитан!» — почему-то подумал я, и у меня, как в молодости, заколотилось сердце.
Вокруг было очень тихо. Очевидно, перевозчик ещё не надумал перевозить нас. Только один раз он
зевнул.
Внезапно в зарослях что-то осторожно звякнуло, будто колокольчик.
И тотчас высокая трель ударила по чёрной воде и рассыпалась среди зарослей кувшинок.
Соловей замолчал, прислушался, потом пустил по реке странные и смешные звуки, будто он полоскал
себе горло ночной росой.
Во, слыхали? — спросил возница. — Это он разгон пока что берёт. А потом как развернётся — одна
красота!
Невежа! — неожиданно сказал из тумана хриплый голос. — Только и ждали тебя, объяснителя. Дай
послухать! Он сейчас даст «лешеву дудку», так ты свою лошадёнку держи — как бы не разнесла.
Возница не обиделся. Он только шёпотом сказал мне:
Сейчас самое будет начало.
И действительно, по веем берегам в зарослях лозы ударили, как по команде, соловьи.
И утро, казалось, начало от этого разгораться быстрее. И уже была видна нежнейшая алая гряда
небольших облаков, что висела с ночи над всем этим лесным краем.
Соловьиный гром нарастал. 3аря открыла свои смутные дали. Тогда оказалось, что на востоке, за
частоколом лесных вершин, лежит тихая и лучезарная страна, которой нет названия. И я снова, сам не
понимая почему, подумал: «Левитановская заря...»
Потом мы переехали через реку и немного посидели около шалаша перевозчика.
Он с гордостью показал мне своё последнее изобретение — круглую узкую яму, выложенную ветками
лозы.
— Вот! — сказал перевозчик. — Последняя моя модель. У вас в Москве холодильники — и у меня
холодильник. Ты засунь руку, попробуй. Мороз!
Дочка мне молоко приносит. Оно тут не киснет нисколько. Вот она, дочка, глупышка отчаянная.
Я оглянулся и увидел маленькую спящую девочку на лежанке из досок. Она усмехалась во сне. Первый
луч солнца, густой, как мазок оранжевого золота, упал на сухие ветки шалаша. Девочка вздохнула. И я
подумал, что вся страна похожа на эту девочку — такая же льняная, сероглазая, застенчивая, жалостливая и
весёлая. И снова я вспомнил о Левитане с благодарностью и грустью.
3а рекой потянулся сосновый лес. Всё в нём было очень приветливо, даже самые скромные, самые
обыкновенные замухрышки — липкие сыроежки и беленькие цветы земляники. Я снова подумал о
Левитане, о том, что в родной земле всё хорошо, вплоть до этого слабенького лесного цветка. Если бы нам
сказали, что больше мы никогда его не увидим, у многих людей сердце сжалось бы от боли...
(По К. Г. Паустовскому*)
(1892-1968) — известный русский писатель, классик
отечественной литературы.
Константин Георгиевич Паустовский
Вариант 29
Учитель военной прогимназии, коллежский регистратор Лев Пустяков, обитал рядом с другом своим,
поручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои стопы в новогоднее утро.
Видишь ли, в чём дело, Гриша, — сказал он поручику после обычного поздравления с Новым годом. — Я
не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день
твой орден, твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца
Спичкина: он страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на
шее или в петлице. И к тому же у него две дочери... Настя, знаешь, и Зина... Говорю, как другу... Дай, сделай
милость!
Всё это проговорил Пустяков, заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь.
Поручик выругался, но согласился.
В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и, распахнувши чуточку шубу, глядел
себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав.
«Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! — думал учитель, покрякивая. —
Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоит, а какой фурор производит!»
Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал медленно расплачиваться с извозчиком.
Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом сидели уже человек
пятнадцать и обедали. Слышался говор и звяканье посуды.
Кто это там звонит? — послышался голос хозяина. — Ба, Лев Николаич! Милости просим. Немножко
опоздали, но это не беда... Сейчас только сели.
Пустяков выставил вперёд грудь, поднял голову и, потирая руки, вошёл в залу. Но тут он увидел нечто
ужасное. 3а столом, рядом с Зиной, сидел его товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян.
Показать ему орден значило вызвать массу самых неприятных вопросов, значило осрамиться навеки,
обесславиться...
Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад; но орден был крепко пришит. Быстро
прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело
опустился на свободный стул, как раз против сослуживца-француза.
Перед Пустяковым поставили тарелку супа. Он взял левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не
подобает есть в благоустроенном обществе, заявил, что он уже отобедал и есть не хочет.
Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: суп издавал вкусный запах, а от
паровой осетрины шёл необыкновенно аппетитный дымок. Учитель попробовал освободить правую руку и
прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным.
Трамблян, почему-то сильно сконфуженный, глядел на него и тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга,
оба ещё более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки.
«3аметил, подлец! — подумал Пустяков. — По роже вижу, что заметил! А он, мерзавец, кляузник. 3автра
же донесёт директору!»
Съели хозяева и гости четвёртое блюдо, съели, волею судеб, и пятое...
Предлагаю выпить за процветание сидящих здесь дам!
Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы.
Лев Николаич, потрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне! — обратился к нему какой-то
мужчина, подавая бокал. — 3аставьте её выпить!
На этот раз Пустяков, к великому своему ужасу, должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с
помятой красной ленточкой увидел наконец свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко
поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удивлёнными, вопрошающими глазами. Губы его хитро
улыбались, и с лица медленно сползал конфуз...
Юлий Августович! — обратился к французу хозяин. — Передайте бутылочку по принадлежности!
Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке, и... о, счастье!
Пустяков увидал на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна! 3начит, и француз
сжульничал! Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился... Теперь уже не было
надобности скрывать Станислава! Оба грешны одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бесславить...
А-а-а... гм!.. — промычал Спичкин, увидев на груди учителя орден.
Да-с! — сказал Пустяков. — Удивительное дело, Юлий Августович! Как было мало у нас перед
праздниками представлений! Сколько у нас народу, а получили только вы да я! Уди-ви-тель-ное дело!
Трамблян весело закивал головой и выставил вперёд левый лацкан, на котором красовалась Анна 3-й
степени.
После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден.
На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод.
«(71)3най я такую штуку, — думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна, беседовавшего со
Спичкиным об орденах, — я бы Владимира нацепил. (72)Эх, не догадался!»
(73)Только эта одна мысль и помучивала его. (74)В остальном же он был совершенно счастлив.
(По А. П. Чехову)
Вариант 30
В избушке у самого леса живёт старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Ни забора, ни
ворот, ни сарая — ничего нет у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотёсанных брёвен воет по
ночам голодный Лыско — одна из лучших охотничьих собак в Тычках.
Дедко, а дедко, теперь олени ходят с телятами? — с трудом спросил маленький Гришутка однажды
вечером,
С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.
Вот бы, дедко, телёночка добыть...
Погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и
телёночка добуду, Гришук!
Гришутке всего было шесть лет, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под
тёплой оленьей шкурой. Мальчик простудился ещё весной, когда таял снег, и всё не мог поправиться. Его
смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как
внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю.
Стояли последние дни июня месяца. Емеля вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке,
отвязал Лыска и направился к лесу.
Ну, Гришук, поправляйся без меня... — говорил Емеля внуку на прощанье. — 3а тобой приглядит старуха
Маланья, пока я за телёнком схожу.
А принесёшь телёнка-то, дедко?
Принесу, сказал.
Жёлтенького?
Жёлтенького...
Ну, я буду тебя ждать... Смотри не промахнись, когда стрелять будешь...
Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском, и всё напрасно: оленя с телёнком
не попадалось. Только на четвёртый день, когда и охотник, и собака совсем выбились из сил, они
совершенно случайно напали на след оленя с телёнком.
«Мать с телёнком, — думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — Сегодня
утром были здесь... Лыско, ищи, голубчик!..»
День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком;
Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах
Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь телёнка, и непременно, чтобы был жёлтенький».
Вон и мать... Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на
Емелю.
«Нет, ты меня не обманешь...» — думал Емеля, выползая из своей засады.
Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.
«Это мать меня от телёнка отводит», — думал Емеля, подползая всё ближе и ближе.
Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять
остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень
скрылся, как только Емеля хотел стрелять.
Не уйдёшь от телёнка, — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.
Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз
рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося оленёнка; старый Емеля и сердился, и
удивлялся смелости своей жертвы. Ведь всё равно не уйдёт от него олень... Лыско, как тень, ползал за
хозяином.
Когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом.
Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый
жёлтенький телёнок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький оленёнок, всего
нескольких недель, с жёлтым пушком и тоненькими ножками; красивая головка была откинута назад, и он
вытягивал тонкую шею вперёд, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем
взвёл курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному...
Ещё одно мгновение, и маленький оленёнок покатился бы по траве с жалобным криком; но именно в это
мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала телёнка его мать, припомнил, как мать
его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он
опустил ружьё. Оленёнок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к
малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул — маленькое животное скрылось в кустах с
быстротой молнии.
Ишь какой бегун... — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — Только его и видел: как стрела... Ведь
убежал, Лыско, наш оленёнок-то? Ну, ему, бегуну, надо расти... Ах ты, какой шустрый!..
Старик долго стоял на одном месте и всё улыбался, припоминая бегуна.
(По Д. Н. Мамину-Сибиряку*)
(1852-1912) — русский прозаик и драматург.
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Вариант 31
Главный воспитатель любого человека — его жизненный опыт. Но в это понятие мы должны включать не
только биографию «внешнюю», но и биографию «внутреннюю», неотделимую от усвоения нами опыта
человечества через книги.
Событием в жизни Горького было не только то, что происходило в красильне Кашириных, но и каждая
прочитанная им книга. Человек, не любящий книгу, несчастен, хотя и не всегда задумывается об этом.
Жизнь его может быть наполнена интереснейшими событиями, но он будет лишён не менее важного —
сопереживания прочитанному и осмысления его.
Есть люди, которые говорят: «Я читать люблю... только не стихи». Тут кроется неправда: человек, не
любящий поэзию, не может по-настоящему любить и прозу, воспитание поэзией — это воспитание вкуса к
литературе вообще. Обаяние поэзии более, чем прозы, скрывается не только в мысли и в построении
сюжета, но и в самой музыке слова, в интонационных переливах, в метафорах, в тонкости эпитетов.
Подлинное прочтение художественного слова (в поэзии и в прозе) подразумевает не бегло почерпнутую
информацию, а наслаждение словом, впитывание его всеми нервными клетками, умение чувствовать это
слово кожей.
Однажды мне посчастливилось читать композитору Стравинскому стихотворение «Граждане,
послушайте меня..,». Стравинский слушал, казалось, вполслуха и вдруг на строчке «пальцами растерянно
мудря» воскликнул, даже зажмурившись от удовольствия: «Какая вкусная строчка!» Я был поражён, потому
что такую неброскую строчку мог отметить далеко не каждый профессиональный поэт.
Я не уверен в том, что существует врождённый поэтический слух, но в том, что такой слух можно
воспитать, убеждён.
И я хотел бы, пусть запоздало и не всеобъемлюще, выразить свою глубокую благодарность всем людям в
моей жизни, которые воспитывали меня в любви к поэзии. Если бы я не стал профессиональным поэтом, то
всё равно до конца своих дней оставался бы преданным читателем поэзии. Мой отец, геолог, писал стихи,
мне кажется, талантливые. Он любил поэзию и свою любовь к ней передал мне. Прекрасно читал на память
и, если я что-то не понимал, объяснял, но не рационально, а именно красотой чтения, подчёркиванием
ритмической, образной силы строк, и не только Пушкина и Лермонтова, но и современных поэтов, упиваясь
стихами, особенно понравившимися ему.
В 1949 году мне повезло, когда в редакции газеты «Советский спорт» я встретился с журналистом и
поэтом Николаем Тарасовым. Он не только напечатал мои первые стихи, но и просиживал со мной долгие
часы, терпеливо объясняя, какая строчка хорошая, какая плохая и почему.
Мне удалось познакомиться с творчеством Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама. Однако на стихах,
которые я в то время создавал, моё расширявшееся «поэтическое образование» совсем не сказывалось. Как
читатель я опередил себя, поэта.
Переломный момент в жизни поэта наступает тогда, когда, воспитанный на поэзии других, он уже
начинает воспитывать своей поэзией читателей.
«Мощное эхо», вернувшись, может силой возвратной волны сбить поэта с ног, если он недостаточно
стоек, или так контузить, что он потеряет слух к поэзии и ко времени. Но такое эхо может и воспитать.
Таким образом, поэт будет воспитываться возвратной волной собственной поэзии.
Я резко отделяю читателей от почитателей. Читатель при всей любви к поэту добр, но взыскателен. Таких
читателей я находил и в своей профессиональной среде, и среди людей самых различных профессий в
разных концах страны. Именно они и были всегда тайными соавторами моих стихов. Я по-прежнему
стараюсь воспитывать себя поэзией и теперь часто повторяю строки Тютчева, которого я полюбил в
последние годы:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, —
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать...
Я чувствую себя счастливым, потому что не был обделён этим сочувствием, но иногда мне грустно,
потому что я не знаю, сумею ли за него отблагодарить в полной мере.
Мне часто пишут письма начинающие поэты и спрашивают: «Какими качествами нужно обладать, чтобы
сделаться настоящим поэтом?» Я никогда не отвечал на этот, как » считал, наивный вопрос, но сейчас
попытаюсь, хотя это, может быть, тоже наивно.
Таких качеств, пожалуй, пять.
Евгений Александрович Евтушенко
Первое: надо, чтобы у тебя была совесть, но этого мало, чтобы стать поэтом.
Второе: надо, чтобы у тебя был ум, но этого мало, чтобы стать поэтом.
Третье: надо, чтобы у тебя была смелость, но этого мало, чтобы стать поэтом.
Четвёртое: надо любить не только свои стихи, но и чужие, однако и этого мало, чтобы стать поэтом.
Пятое: надо хорошо писать стихи, но, если у тебя не будет всех предыдущих качеств, этого тоже мало,
чтобы стать поэтом, ибо
Поэта вне народа нет,
Как сына нет без отчей тени.
Поэзия, по известному выражению, — это самосознание народа. «Чтобы понять себя, народ и создаёт
своих поэтов».
(По Е. А. Евтушенко*)
* (1932-2017) — советский и российский поэт; получил известность
также как прозаик, публицист, режиссёр, сценарист, актёр, чтец-оратор.
Вариант 32
Жизнь человеческая делится на огромные промежутки времени, на соединения многих эпох. Но
внезапно среди этого течения земного времени возникает нечто потрясающе новое, рождается то
великое событие, с которого люди начинают счёт нового времени на своей старой доброй Земле.
Двенадцатого апреля 1961 года началась новая эра в жизни человечества.
Простой русский человек с прекрасной фамилией Гагарин вернулся из космоса.
Двенадцатое апреля 1961 года — день не только нашей чистой и благородной национальной
гордости, но и гордости всего мыслящего человечества.
Нам не свойственно хвастовство, но очень свойственна сдержанная вера в своих людей, в гений
русского народа и ещё больше — в гений человечества. Эта вера теперь оправдана до конца, какие бы
трудности ещё ни ожидали нас на жизненном нашем пути.
Миллиарды сердец бились напряжённо и взволнованно. Все мысли были прикованы к судьбе
мужественного человека, о котором до исторического полёта почти никто не знал.
Если простая поэзия мифа об Икаре, взлетевшем к солнцу на восковых крыльях и погибшего в
сияющей небесной синеве, прошла через все века и дожила до наших дней во всей своей
простодушной прелести и наивности, то полёт Гагарина будет волновать людей, пока будет
существовать наша Земля.
Сейчас я невольно вспомнил, как ещё гимназистом бежал ранним утром под прохладными
цветущими каштанами на ипподром за городом, где был назначен первый в нашем сухопутном мире
полёт авиатора Уточкина. Я помню всё: солнце, яркое, словно омытое росой, доброе и спокойное лицо
Уточкина в десяти метрах надо мной, и слёзы, внезапно брызнувшие из глаз стоявшей вблизи меня
молоденькой и красивой женщины. Это была очень любимая киевской молодёжью актриса Пасхалова.
Военный оркестр играл почему-то под сурдинку вальс «Дунайские волны».
И вот — невиданный скачок от этого идиллического андерсеновского полёта до могучих
воздушных кораблей и, наконец, порыв, полёт, уход в космос, в те пространства Вселенной, где
человек соприкасается с вечностью. Наше поколение счастливое. Оно перенесло великие муки и
победы и дожило до наступления новой, величайшей эры. Оно счастливо этим и счастливо ещё и тем,
что к его представлению о великолепии мира прибавилась ещё одна черта — бесстрашный,
спокойный, уверенный полёт советского человека в космос. Это величайшая мирная победа в истории
Земли!
(По К. Г. Паустовскому*)
*
отечественной литературы.
(1892-1968) — известный русский писатель, классик
Константин Георгиевич Паустовский
Вариант 33
Есть ложное представление, будто город убивает чувство природы.
Я думаю, напротив: город воспитывает естественное чувство, и если мы называем землю матерью,
то город — учитель и воспитатель этого чувства к матери земле.
Я бы мог доказать это исторически, проследив, например, в живописи, как возникал интерес к
пейзажу с развитием жизни больших городов, но как-то проще выходит, если говорить о собственном
опыте.
Ранней весной я испытывал такое сильное желание странствовать, что становился больным и
неспособным к работе. Будь у меня крылья — я улетел бы с птицами, будь средства — поехал бы
открывать тогда ещё не открытые полюсы, будь специальные знания — примкнул бы к научной
экспедиции. Но не говорю уже о крыльях — не было у меня ни денег, ни полезной специальности.
Много мне пришлось побороться с жизнью, пока, наконец, я не овладел собой и сначала научился
путешествовать без денег, а потом и летать без крыльев — писать о своих путешествиях.
И трудно же было усидеть в Петербурге весной. Бывало, ночью откроешь форточку и слушаешь,
как свистят пролетающие над городом кулики, как утки кричат, журавли, гуси, лебеди — такой уж
этот город, окружённый огромными, неосушёнными болотами, что, кажется, вся перелётная птица
валит по этому рыжему от электричества небу. Бывало, расскажешь про такое что-нибудь в обществе
— и так этому удивляются...
Купил я себе за двенадцать рублей дробовую берданку, синий эмалированный котелок с крышкой,
удочки, разные мелочи и начал путешествовать. С тех пор ни одной весны я не пропустил, и все вёсны
были такие же разные, как посещённые мною края: каждая имела своё лицо.
Все обычные путешествия имеют к моему путешествию такое же отношение, как дачная жизнь к
обыкновенной трудовой жизни, потому что добывание по пути средств существования ставило меня в
такие же условия, как перелётных птиц, тысячи вёрст до мозолей махающих крыльями. Конечно, без
риска ничего не выходит, и моё путешествие без денег тоже рискованное предприятие, но зато когда
одолеешь, то непременно сверх лишений остаётся, как у матери ребёнок, большая, прочная радость.
Помню, я оплавал почти всё Белое море и по Северному океану довольно много в России и в
Норвегии, пользуясь местными оказиями рыбаков, добывая себе пищу почти исключительно охотой и
милостью людей за случайные подмоги.
Приходилось ночевать и на лодке, и под лодкой, и на песке под парусом, и раз даже схватить за
ногу через дырочку в парусе токующего на мне самом тетерева.
И чего только не бывало во время этого звериного сна, когда спишь и в то же время знаешь, что
вокруг тебя делается. Но никогда я не заботился, чтобы собирать материалы для повести, никогда бы у
меня из такого путешествия не вышло ничего хорошего, потому что оно бы не было тогда свободным
и большое великое должно было бы подчиниться малому личному. Я заботился только о
добросовестном изучении местной жизни, слушал всё с вниманием и заносил иногда на лоскуток
бумаги (часто папиросной) интересные мне слова.
Трудно так путешествовать, но что же делать! Попробуйте соединиться с ихтиологической
экспедицией на Мурман — и вы узнаете жизнь трески; поработайте с поморами на их первобытной
шняке
1
в океане по улову этой самой трески — и вы узнаете жизнь всего края через жизнь трудового
человека.
Если бы жизнь пришлось повторять, я непременно бы сделался краеведом, но не таким, какие они
есть — учёные-специалисты, или энциклопедисты, а таким, чтобы видеть лицо края. Многие думают
(и этот предрассудок широко распространён), что если изучить край во всех отношениях и эти знания
сложить, то получится полное представление о том или другом уголке земного шара. Но я думаю, что
сложить эти разные знания и получить из них лицо края так же невозможно, как сотворить в колбе из
составных элементов живого человека. Сколько вы ни изучайте край и сколько вы ни складывайте
полученные знания, всё-таки непременно останутся места, наполнить жизнью которые может только
простак, сам обитатель этого края. Вот мне и кажется, что настоящий краевед должен исходить не из
своего знания, например, какой-нибудь ихтиологии, а из жизни самого простака (я не люблю слово
«обыватель»). Для этого, скажут мне, существует наука этнография, но и про этнографию я скажу то
же самое: живую жизнь она пропускает; для того чтобы схватить живую жизнь, нужно найти секрет
временного слияния с жизнью самого простака; самое трудное в этом слиянии, что его нельзя
задумать и осуществлять по программе: нужно, чтобы оно выходило из всей натуры тебя самого. В
путешествиях, которые, очевидно, и есть моё призвание, я этого иногда достигал, и думаю, что если
нарочно не засмысливаться, то множество людей могут черпать в трудовом опыте ценнейшие
материалы. На это мне делали возражение, что для использования трудового опыта должно быть
наличие художественного дарования — удел очень немногих. Я согласен, что в известном кругу
общества художественный синтетический дар действительно имеют очень немногие, но в простом
трудовом народе, причастном к стихии, он есть общее достояние, как воздух и вода.
(По М. М. Пришвину*)
(1873-1954) — русский писатель, прозаик и публицист.
Михаил Михайлович Пришвин
Вариант 34
Василь (Василий) Владимирович Быков
В неприметной лесной деревушке возле большой белорусской реки живёт нестарая ещё женщина. У
неё добротный, отстроенный в послевоенное время дом, некогда разноголосо звучавший ребячьими
голосами. Теперь здесь тишина, небольшое хозяйство, и досуг заполнен воспоминаниями о том
давнем военном лете, когда эта женщина, тогда молоденькая девушка, потерявшая родителей, собрала
под уцелевшей крышей полдюжины осиротевших на войне ребятишек, на долгие годы став для них
матерью, старшей сестрой, воспитательницей.
Шли годы, ребятишки учились, взрослели и расходились из лесного пристанища по своим
неизведанным дорогам. И вот настала минута, когда она распрощалась с последним из младших и
осталась в этом доме одна. Она не жалеет о своей нелёгкой судьбе, которую во многом определила её
доброта, проявившаяся в трудный час.
Всё дальше уходит война в невозвратное прошлое, эта самая большая война, но шрамы от её
страшных когтей нет-нет да и проглянут в привычном благополучии нашей сегодняшней жизни.
Минуло столько лет, а память о ней жива в сознании народа, в сердцах и душах людей. В самом деле,
как можно забыть наш беспримерный подвиг, наши невосполнимые утраты, понесённые во имя
победы над самым коварным и жестоким врагом! Кроме того, война преподала истории и
человечеству ряд уроков на будущее, игнорировать которые было бы непростительным равнодушием.
Но память человека ограничена в своих возможностях. То, что недавно ещё было памятно тебе, по
прошествии лет постепенно затягивается туманной дымкой забвения, и уже требуется усилие, чтобы
вспомнить имена иных фронтовых товарищей, даты некогда так хорошо памятных боёв, названия сёл
и урочищ
1
, которые, казалось бы, на всю жизнь врезались в твою память. К тому же с
неотвратимостью редеют ряды ветеранов, тех, кто прошёл войну и мог бы со знанием дела и
подробностей рассказать о ней людям.
Я знаю живущего в Гродно бывшего командира батареи Ивана Григорьевича Ущаповского,
прошедшего всю войну от первого её дня до последнего, много пережившего и много на ней
повидавшего. Обладая удивительной памятью относительно всего, что касается той поры, он отдал
несколько лет жизни созданию воспоминаний о пережитом, написал более тысячи страниц. Это
искренний и правдивейший документ, являющийся свидетельством о величайшей из войн, увиденной
глазами её рядового участника, но пока ещё не нашедший своего издателя.
Долг всех, кто пережил величайшую из войн и кому есть что рассказать людям, — сделать это в
любой доступной для него форме. Мы, литераторы, а также издатели, журналисты должны помочь
тем, кто не имеет достаточных для того возможностей. И старый заслуженный генерал, прошедший со
своей дивизией от подмосковных полей до Берлина, и прославленный партизанский руководитель,
организатор всенародной борьбы на оккупированной территории, и безвестная женщина, воспитавшая
полдюжины сирот, могут и должны поведать .истории и человечеству о пережитом ими в лихую
годину.
Но всё необозримое многообразие народного подвига в огневые годы войны, героизм сражавшихся
миллионов, полная не меньшего героизма и самоотверженности работа советского тыла таят в себе
немало неосвещённых, а то и забытых страниц.
В этом смысле огромнейшая задача ложится на наше искусство и литературу, обладающие, как
известно, завидной способностью остановить быстротекущее время, запечатлеть его кардинальные
моменты в историческом сознании народа. Нужно как можно больше ярких индивидуальных и
коллективных свидетельств об этой небывалой в истории войне, рассказанных по радио и
телевидению, написанных воспоминаний, очерков, статей.
(По В. В. Быкову*)
(1924-2003) — советский писатель, общественный
деятель, участник Великой Отечественной войны.
1
Урочище — здесь: отдалённое место проживания.
Вариант 35
В доме Чехова в Ялте, на стене над камином, очень простой пейзаж Левитана — стог сена в
осенних поздних сумерках, когда на траву уже ложится холодная роса.
Левитан оставил Чехову картину как подарок из милой сердцу России.
Очень прост этот пейзаж. Прост, как все картины Левитана. Перед ними можно стоять и час, и два и
всё же до конца не понять, в чём сила этих элегических красок, в чём тайна этого молчаливого
художника, покорившего наши сердца.
Тайна (если это можно назвать тайной) в том, что Левитан показал нам самим всю силу нашей
любви к своей родной стране. Он показал нам нашу любовь, застенчивую и до него не высказанную в
полной мере.
Средняя полоса России — страна необыкновенная. Достаточно увидеть, как ветер уносит
лиственный убор лесов в синеющую осеннюю даль или каким застенчивым счастьем блестят глаза
белоголового мальчика со свистулькой в руках — того мальчика, что сидит на песчаном косогоре и
тихонько посвистывает. Достаточно увидеть хотя бы это, чтобы сердце надолго, навек, навсегда
покорилось этой стране с её светлой и чистой, как родниковая вода, красотой.
Вошёл в боковой зал наверху и вдруг снова задохнулся. Невольные слёзы обожгли глаза (я тогда
очень стыдился слёз): я стоял перед «Золотой осенью» Левитана. Эта картина вошла в моё сознание
как проявление такой величавой и облагораживающей красоты, что до тех пор я даже не мог поверить
в существование такой красоты на свете.
Все семь дней, которые я тогда пробыл в Москве, я провёл в галерее у полотен Левитана —
изумлённый, взволнованный, притихший. Всё дрожало у меня на душе. Я чувствовал, что со мною
происходит что-то непонятное. Я не мог тогда ещё ясно знать, что происходит со мной.
А происходило величайшее событие в моей жизни: я нашёл свою родную страну.
Я уже любил её до последней прожилки на каждом незаметном дубовом листке.
Я был готов отдать этой стране все силы души и тогда ещё молодого сердца.
Тогда впервые дошёл до меня подлинный смысл таких слов, как «священная земля», «Отечество»,
«Отчизна».
С тех пор Срединная Россия стала для меня действительно священной землёй, и я часто видел её
так, как в первый раз, — покрытую драгоценным покровом серебряной осенней паутины и залитую
сиянием нежаркого солнца.
(По К. Г. Паустовскому*)
(1892-1968) — известный русский писатель, классик
отечественной литературы.
Константин Георгиевич Паустовский
Вариант 36
Антон Павлович Чехов
Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория.
3а 30 лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро.
Я нервно застёгиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь... Похоже на то, как будто я
трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.
При моём появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает
штиль.
Я знаю, о чём буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем закончу. В голове нет ни
одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию и произнести стереотипное «в
прошлой лекции мы остановились на...», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и —
пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно и, кажется, нет той силы, которая
могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для
слушателей, нужно, кроме таланта, иметь ещё сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным
представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи.
Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять никого из
поля зрения.
Хороший дирижёр, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру,
машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны. То же самое
и я, когда читаю. Предо мною полтораста лиц, непохожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне
прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю,
имею ясное представление о степени её внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой
мой противник сидит во мне самом. Это — бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и
множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость
выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течёт моя
речь,
облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы
её внимание, причём надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в
известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать.
Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно
проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моём распоряжении
имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится
изображать из себя и учёного, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога
и учёного, или наоборот.
Читаешь четверть часа, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок,
один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнётся своим мыслям... Это значит, что
внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-
нибудь каламбур. Все полтораста лиц широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго
гул моря... Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.
Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как
чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не
выдумка поэтов, а существует на самом деле.
Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и
получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах; сажусь в кресло, но
сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту
сохнет, голос сипнет, голова кружится... Чтобы скрыть от слушателей своё состояние, я то и дело пью
воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк, говорю невпопад каламбуры и в конце
концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно.
Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, — это прочесть
мальчикам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить своё место
человеку, который моложе и сильнее меня.
Но у меня не хватает мужества поступить по совести.
К несчастию, я не философ и не богослов. Как 20-30 лет назад, так и теперь, меня интересует одна
только наука. Испуская последний вздох, я всё-таки буду верить, что наука — самое важное, самое
прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и
что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в
своём основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.
(По А. П. Чехову*)
* (1860-1904) — русский писатель, прозаик, драматург.
Русский язык - еще материалы к урокам:
- Презентация "Разговорный стиль речи"
- Проверочная работа "Предложение. Слово в языке и речи" 4 класс
- Контрольная работа "Фонетика. Орфоэпия"
- Урок по теме "Антонимы" 2 класс 1 четверть. Школа России
- Презентация к уроку русского языка "Помощь дроздам. Изложение деформированного текста" 4 класс «Школа России»
- Технологическая карта урока "Текст. Заглавие текста" 2 класс