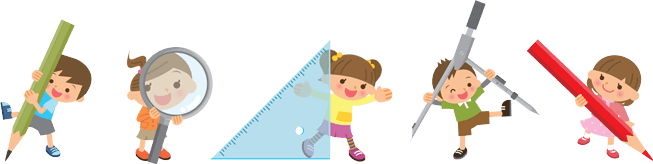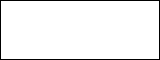Рассказы к ЕГЭ по русскому языку: Распутин Валентин В ту же землю (в сокращении)
Распутин Валентин
В ту же землю (в сокращении).
Крайней улицей микрорайон выходил на овраг, обширный и пустой, лежащий
огромной неровной впадиной. Его можно было принять за заросший карьер, но нет,
грунтовой выемки тут никогда не было, так устроилось природой. Вокруг этого города,
блиставшего в свое время славой великой стройки коммунизма, земля перебучена и
перелопачена на десятки километров, здесь вбили в русло гигантскую плотину для
электрических турбин, построили огромный алюминиевый завод, лесопромышленный
комплекс, до десятка других крупных заводов, но и здесь кое-где остались участки
нетронутой земли.
Тяжелая фигура женщины с непокрытой головой выступила из тумана, обтекающего
дом, еще раз бросила взгляд на окна, с усилием поднялась по каменным ступенькам к
разверстому входу и полезла по лестнице. Дверь в подъезд была сорвана, свет внутри не
горел, подниматься приходилось ощупью. Она открыла незапертую дверь в квартиру, после
свежего холодного воздуха потянула носом, принюхиваясь, и, пройдя мимо закрытой слева
двери, вошла во вторую комнату, сбросила отсыревшую темную куртку на узкую
продавленную кушетку, стоящую за дверью справа, упала на нее сама и только теперь,
словно в назначенную минуту, тяжким прерывистым стоном заскулила по-собачьи, закрывая
рукой рот, чтобы не услышали.
В первой, в маленькой комнатушке лежала покойница, мать этой женщины, самой ей
было под шестьдесят, но не о матери, зажившейся на свете и скончавшейся несколько часов
назад, плакала эта рыхлая мужиковатая женщина, не себя oнa жалела, никогда не снисходя
до жалости к себе, а, сильной, ко всему привыкшей, не хватало ей сил, чтобы подступить к
страшной тяжести приближающегося дня. Она и на улицу выходила, чтобы движением
облегчить ее, эту тяжесть, и только сильнее еще придавилась. Не хватало воздуха, нечем
было дышать.
Звали эту женщину Пашутой. Имя, как и одежда, меняется, чтобы облегать человека,
соответствовать происходящим в нем переменам. Была Пашенька с тонкой талией и
блестящими глазами; потом, войдя в возраст, в замужество, в стать - Паша; потом один
человек первым подсмотрел - Пашута. Как фамилия. Так и стали называть, порою не зная,
имя это или фамилия. "Это сытно звучит. И сама ты баба сытная", - говорил в похвалу тот
самый человек, который окрестил ее Пашутой.
Накануне вечером Пашута воротилась домой поздно, уже в темноте, доходил десятый
час. Поехав в город, она не собиралась задерживаться. Но не утерпела и зашла в свою
столовую, а там девчонки пригласили поработать вечером на спецобслуживании.
Спецобслуживание - это когда снимают столовую для события. Какое было событие, Пашута
не разобрала, как ни прислушивалась к тостам. Праздновала какая-то незначительная
организация, гуляли и невесело, и скромно, но Пашуте пришлось возиться с посудой чуть не
до конца, пока не понесли мороженое. Девчонки и ей сунули в баночке два комка
мороженого. Девчонки - по привычке, по старой памяти, когда они действительно начинали
девчонками, половина из них уже в бабках. В сумке у Пашуты лежал еще и пакет с пловом,
выскребенным из остатков в котле. Приходилось не брезговать и этим. Тыкавшая себя
постоянно в свое униженное положение, Пашута корилась, что она и в столовую продолжает
ходить ради подачек. Но это неправда. Всю жизнь проработавшая в столовых и почти десять
лет проработавшая в этой, последней, она скучала без нее, никак не могла отвыкнуть от
"ада", как дружно все они проклинали чад и смрад, жар и пар среди печей и котлов, густых и
одуряющих запахов пищи, впитывающихся в тело, по нескольку часов на ногах. В столовых
она сполна прошла весь трудовой путь от заведующей до посудомойки. Путь в обратном
направлении. В двадцать лет, среди восемнадцатилетних, - заведующая, и два года, уже с
пенсией, - посудомойка. Месяц назад ее рассчитали. Столовая была кормным местом, в нее
напрашивалась и молодежь, а у Пашуты совсем стали отказывать ноги. Девчонки бы еще
постояли за нее, но и их ожидала та же участь. Хозяином столовой становился казбек,
гибкий, поигрывающий телом молодой человек из кавказцев с пронзительными глазами на
узком птичьем лице. Дело шло к приватизации и перестройке в ресторан - и уж тогда в
городе, кроме заводских, не останется ни одной столовой.
Девчонка была дома, когда Пашута вернулась. С нею жила внучка, учившаяся с
сентября в педагогическом училище. Но родных детей у Пашуты не было, она брала
приемную дочь, когда жила семьей; внучка от приемной, родная и не родная, без кровной
близости. Но за девчонку Пашута простила бы ей вдесятеро больше. За то, что она прислала
на учебу пятнадцатилетнюю Таньку. С нею как-никак посветлела жизнь.
Аксинья Егоровна скончалась тихо, во сне. Не пришлось и глаза закрывать. Так ее
намаяла, так изъездила жизнь, что она в последний месяц и не знала, живет она или не
живет.
Пашута широкой большой рукой гладила мать по маленькой, быстро остывшей голове,
по ввалившимся щекам, по подвязанному подбородку и думала, думала... Она и сама,
казалось ей, постепенно закостеневает в мумию и уже не способна отдаться горю.
Произошло то, что и должно было произойти. Но, как ни ожидала она его, как ни смирилась
давно уже с ним, она не была к нему подготовлена. Ничего в ней не было готово к тому,
чтобы встретить материнскую смерть. Не врасплох и все равно врасплох. Не смерть матери
ее ужасала, нет, а то тяжкое и властное, что надвигалось теперь со смертью, то, как обладить
двухдневные проводы до окончательного прощания. Но и после прощания - девятины,
сороковины, полгода, год... Существуют давние, крепче всякого закона, календарь и ритуал
проводов. В городе живых заведено немало служб, принадлежащих, в сущности, тому свету,
в которых заняты люди, устраивающие туда дорогу. Мертвый не имеет права считаться
мертвым, пока не выдано свидетельство о смерти. По этому свидетельству его отвезут в
морг, там, окаменевшего и униженного в смерти последним, самым жестоким унижением,
окатят из шланга водой, воткнут в принесенную одежду; по этому свидетельству на фабрике
ритуальных услуг подберут гроб, украсят его по одному из пунктов ассортимента и подадут
под тело; по этому же свидетельству на кладбище выроют могилу в такой тесноте мертвых,
что на похоронах натопчешься всласть на соседях... И всюду заплати. В морг, наверное,
можно не возить, а всего остального не миновать. Там миллион заплати и там миллион с
полмиллионом, а там только полмиллиона и еще семь раз по полмиллиону. Меньше нигде не
берут. Но откуда у Пашуты такие деньги? У нее нет их ни в десятой, ни в сотой доли. Где
она их возьмет?
Но и это еще не все. Чтобы быть прописанным на городском кладбище, надо при жизни
иметь прописку в городе. А у Аксиньи Егоровны ее не было. Она не имела права здесь
умирать. Пашута, как и до того трижды привозила ее, привезла мать на зимовку; одной ей в
восемьдесят четыре года отапливать и обихаживать себя в деревне было непосильно.
Пашута сидела и сидела возле матери, словно советуясь с нею, что теперь делать, как
быть, а рука все тянулась прикоснуться, приласкать.
Господи, но как же просто было бы сейчас в деревне! Как близко там почившему от
дома до дома! Снесли бы Аксинью Егоровну на руках, положили просторно среди своих,
деревенских, и весь обряд был бы дорогой к родителям, а не хождением по мукам, по
хищникам-разбойникам, наживающимся на смерти. Там бы и небо приспустилось над
Аксиньей Егоровной, труженицей и страдалицей, и лес бы на прощанье помахал ветками, и
дых ветра, пронесшись струнно, заставил бы склониться в прощальном поклоне всякую
травку.
Без малого сорок лет в этом городе, а посмотреть вокруг - никого поблизости. Ни к ней
никто, чтобы хоть изредка душу отвести, ни она к кому. Пашута теперь уже и не знала,
почему это бывает, что человек остается один. В молодости сказала бы, что для этого нужно
быть чересчур нелюдимым или гордым, не иметь тепла в душе к тем, с кем сводит жизнь.
Сейчас все по-другому, обо всем надо судить заново. Сама ли виновата, по характеру своему,
или это судьба всех уходящих в старость - ей не хотелось в этом разбираться, да и, пожалуй,
не под силу было. Как медведи, в зимний гнет залегли по берлогам и высовываются редко,
только по необходимости. В какой-то общей вине, в общем попущении злу прячут глаза.
Невольно прячут и те, кто считает себя виноватым и кто не считает.
Мать лежала прибранная, торжественная, со скрещенными на груди руками, с
расчесанными волосами под темным платочком, завязанным под подбородком. Подвязаны
были вместе и вытянутые, вдоволь набегавшиеся ноги. Такой покой был на ее лице, будто ни
одного, даже маленького дела неоконченным она не оставила.
Она поехала к тому самому человеку, который впервые назвал ее Пашутой, который
говорил, что она сытная баба, такая, стало быть, что возле нее чувствуешь себя сытно,
успокоенно. А он знал ее. Лет восемь подряд, оба одинокие, потрепанные жизнью, грелись
они друг возле друга. То она приезжала к нему, то он к ней. Было это давно: всё, достойное
памяти, было давно, последние годы только уродовали ее и унижали. Она и связь со Стасом
порвала оттого, что ей стыдно стало показывать себя, больную, расплывшуюся тоже "за
черту". Встречались они теперь совсем редко; раз или два в году по обязанности доброго
сердца он заглядывал, пытался растормошить ее, упрекая за безволие, и уходил, она видела,
расстроенным.
Стасом она называла его про себя, а перед ним - Стас Николаевич. Навсегда он остался
для нее человеком другого круга - образованным, многознающим, собранным аккуратно в
приятный порядок, так что не топорщилось ничто ни в одежде, ни в речи, ни в поведении. На
стройке он начинал с диспетчерской, голос его разносился через громкоговоритель далеко -
и всегда без крика. Потом как инженер поднимал алюминиевый завод. У него рано погибла
жена, которую он очень любил, погибла у него на глазах во время спуска на резинках по
горной реке, куда он ее затащил, оставив ему, кроме трехлетнего сына, незаживающее
чувство вины. Сына пришлось отправить к своим родителям в Рязань; тот, выучившись, там
и остался. А Стас надолго сник, переходил с работы на работу, чуть было не ушел в пьянку,
но удержался и перебрался из города в этот пристанционный поселок, купил здесь
небольшой деревянный домик и, уже оформив в прошлом году пенсию, подрабатывал в
столярке.
Кроме Стаса, не осталось у Пашуты ни одного человека, кому бы она могла довериться.
- Ты, Стас Николаевич, не сделаешь нам гроб?
- Гроб? - Нельзя было понять, удивился ли он. Но смотрел на нее длинным
пристальным взглядом, забывчиво держа на весу кружку с чаем. Разве там не сделают гроб?
У них правило: покойник ваш, а гроб наш. Разве не так?
Она покивала: так. И сказала наконец то, к чему уже приступила за ночь. Сказала с
замедлением, вдавливая слова:
- Я, Стас Николаевич, задумала мать сама похоронить. Без них. Мне к ним идти не с
чем.
Он невольно перешел на тот же выговор, давя на каждое слово:
- Без них, дорогая Пашута, туда не попасть. Это не деревня. Сердце продавай, печень,
селезенку, душу... Теперь все покупают, но иди к ним.
Не мы с тобой стали никому не нужными, а все кругом, все! Время настало такое
провальное, все сквозь землю провалилось, чем жили... Ничего не стало. Все отдали
добровольно, пальцем не шевельнули... и себя сдали. Теперь стыдно. А мы и не знали, что
будет стыдно. - Она помолчала и резко повернула, видя, что уводит разговор в сторону, где
только сердце надрывать. - Дадут! - согласилась она. - Если просить, кланяться - дадут. Те
дадут, кому нечего давать. Из последнего. Ну, насобираю я по-пластунски, может, сто тысяч.
А мне надо сто раз по сто. Нет, не выговорится у меня языком - приходить и просить. А чем
еще просить - не знаю.
Стас осторожно напомнил:
- У тебя ведь дочь есть.
- Дочь мне неродная, - глухо сказала Пашута. - И живет она с мальчонкой в последнюю
проголодь. Девчонку мне отдала в учебу. Живет одна, без мужика. Это вся моя родня.
Дальняя есть, но такая дальняя, что я ее плохо знаю. Нас у матери было четверо, в живых я
одна. Все ненормально верно ведь, Стас Николаевич?
- Не паникуй. Куда твоя твердость девалась?
- Остатки при мне. И то много. С нею-то хуже. Она не для воровства, не для плутовства
у меня, скорей в угол загонит.
- Ну, сделаю гроб, - спрашивал Стас, - и куда ты с ним? Дальше-то что? В какую
контору, под какую печать? Это же все потребуется!
Пашута и здесь кивнула: потребовалось бы... Но не потребуется.
- Я тебе еще не все сказала. - Мне ничего не потребуется, Стас Николаевич. У нас не
будет свидетельства о смерти, потому что не было прописки. И здесь, наверное, можно
добиться... За деньги теперь всего можно добиться. - Сделала паузу, говорящую, что не ей
этого добиваться. И повторила: - Мне нужен гроб, Стас Николаевич. Я сама вырою могилу.
- Где?
- У нас за пустырем лес. Место сухое. И от меня недалеко.
На Стаса это произвело впечатление. Он поднялся, завис над столом на длинных руках.
- Но это же не похороны, Пашута. Это же - зарыть!.. - он сдержался, не стал
продолжать.
- Зарыть, - согласилась она.
- Взять и зарыть?! Ты с ума сошла, Пашута! Ведь она у тебя русского житья была
человек. А ты - зарыть!
Это же человек, мать твоя, а не собака! - И еще одно со страхом вспомнил он: - Ты и
попрощаться с нею людям не дашь.
- Когда ты хотела это сделать?
Она не стала ломаться, понимая, что заставила его согласиться.
- Завтра воскресенье. Люди спать будут.
- Да ведь по обычаю на третий день?..
Что было объяснять? Все тут поперек обычаев, за все отвечать придется. Пашута после
слез закаменела еще больше. Стас перешел в комнату и кому-то звонил.
- Серега, - говорил он в телефон. - Подходи-ка ко мне. Очень ты мне нужен. Давай-
давай, Серега, по пустякам я бы тебя не погнал. Подходи.
В квартире стоял запах - еще не тления, но горя. В жилых стенах пахло запустением и
горечью, в них поселилось бестелесое существо, приходящее в тяжелые дни, чтобы справить
какой-то свой ритуал. Пашута принюхивалась, пахло как от овчины, из которой не
вынашивается дыхание жизни, ее породившей.
Старенькая бабушка у нас умерла, это ты верно догадалась, - голос ее при этих словах
не изменился, не дрогнул, она думала о чем-то, чему появление девчонки все-таки мешало. -
Бабушка наша правильно сделала, что не стала тянуть. Не смотри на меня так, я старуха
грубая. А прикидываться разучилась. Бабушка и пору выбрала самую подходящую - перед
зимой. Она нам все устроила как лучше. А теперь, Татьяна, слушай. - Она опустилась с
девчонкой рядом на кушетку. - Бабушку я буду хоронить наособицу. Крадучись буду
хоронить, Ночью, чтобы люди не видели. На кладбище везти - денег у нас с тобой нету. А
побираться я не хочу. И еще слушай. Ни матери, ни кому другому я не дала знать. Потом
скажем. И ты покуда молчи.
Танька сидела, замерев, уставив глаза в стену.
- С этого момента придется тебе стать совсем взрослой, - продолжала Пашута. -
Некогда нам дожидаться, когда это само произойдет. Отгуляла детскую радость... хотя и
такой радости, девочка ты моя, у тебя, однако, было не много... Принимайся-ка теперь за
долю. Будет у тебя все, будут и радости... А пока придется нам горемычество принять. - И,
помолчав, подтолкнула к первому шагу: - Иди, взгляни на бабушку.
Танька пошла. Пашута осталась сидеть: не вздымали ноги, ныли пронзающими
тукающими ударами. Вышла Танька, присела рядом, вздрагивая и испуганно прижимаясь.
Пронзило девчонку. С этого дня и без наставлений Пашуты ей станет не просто пятнадцать,
а пятнадцать с этим днем, который потянет ой как много. Танька - девчонка ласковая, в лесу
сохранилась. Надо не потерять ее, в городе на каждом шагу погибель. Господи, что это за
мир такой, если решил он обойтись без добрых людей, если все, что рождает и питает добро,
пошло на свалку?!
- А бабушка верила в Бога? - спросила неожиданно Танька.
Пашута обернула к ней лицо и внимательно всмотрелась. Вот так недолетка! Она
спросила то, что Пашута боялась додумать. "Там разберутся", - казалось ей. Там-то там, но и
здесь, выходит, надо разбираться. Вот этого она и избегала - разбираться здесь. Одно дело -
грубо, вопреки правилам, спровадить неприкаянную душу, и совсем иное - если и там у
души дом родной, где ее ждут.
- Не знаю, - угрюмо ответила она. Ответила не только Таньке. - Как, поди, не верила -
она старого житья была человек.
- Она просила, чтобы я ей в церкви иконку купила...
- А ты купила? - напряженно спросила Пашута.
- Маленькую такую. Богородицу. В ладошку входит.
- А как я не видела?
- Она на этажерке стоит. Ты не заметила.
- Бабушка, ты разговаривай со мной, разговаривай!.. - отчаянным шепотом рвалось из
Таньки. - Ты молчишь, я не знаю, почему молчишь... Я не маленькая, пойму. Почему ты
вчера не сказала мне?.. Ты думаешь, что я неродная, а я родная... хочу быть родной. Хочу
помогать тебе, хочу, чтобы ты не была одна! Мы вместе, бабушка, вместе!..
Пашута застыла. Сегодня она уже дала слабину - у Стаса, когда разрыдалась. Если еще
раз пустит слезу - дело плохо. Она приказала себе замереть, чтобы ни звука не вырвалось из
ее недр, пока не откатит волна сладкой боли, перехватившей горло, так давно не
испытываемой. Что-то еще осталось в ней, что-то вырабатывает эти чувствительные
приступы. Она успокоилась и лишь после этого в ответ обняла Таньку, прижала неловко и
пообещала:
- С кем же мне еще разговаривать, как не с тобой! Больше у меня никого нет.
- Мне шестнадцать будет - я могу в подъезде мыть. Или телеграммы разносить - я
узнавала. Я могу... я могу, бабушка! - сорвалась опять Танька на слезный шепот. Она
выпрямилась и, моргая часто от слез и напряжения, искала, искала в Пашуте перемен,
которые могли произойти от ее порыва. Она бы хотела, подняв голову, увидеть Пашуту
совсем другой - ласковой и доступной. Пашута понимала ее и ненавидела себя еще больше.
Она сказала:
- Прокормимся, Татьяна.
Не выговорилось у нее: спасибо, милая девочка; вот мы и породнились еще ближе.
- Давай дверь откроем, - предложила Танька, поднимаясь первой. - Она там совсем
одна.
Сама же и растворила дверь.
Выехали на полянку среди редколесья; Серега затормозил и первым вышел. Выбралась,
уже видя, что нашли, и Пашута. Вокруг стояли сосны, а с темной, с северной стороны
высоко и могуче вздымались из одного корневища, расходясь, как сиамские близнецы, на
высоте человеческого роста две лиственницы. Других таких во всем лесу быть не могло.
Будут стоять как сторожа над материнской могилой. Да, здесь разводить могилу, ничего
другого можно не искать. Полянка небольшая, но, должно быть, веселая и приветливая при
свете и солнце, в мягкой хвойной подстилке с негустой травой.
- Место мы с тобой хорошее выбрали...
- Хорошее, - согласилась Пашута.
- Вот думаю: не забронировать ли у тебя рядышком? Не люблю толкотню, тоже на
выселки не отказался бы.
- Тебе до этого далеко.
Господи, как хорошо не видеть того, что делается на этой земле!
... - А что, - громко и облегченно говорил Серега, со стаканом водки в руке оглядывая
оставляемый холмик. - Хоронят же при дорогах шоферов, когда погибают при исполнении
обязанностей. Какая разница - где?! В ту же землю... Правда, Танька?
Танька торопливо закивала. В освещенных недетским прозрением глазах ее стояли
слезы. Решительно вступала в свои права зима - снег шел густо, небесный свет его должен
был проникать глубоко.
Зимой по богатому снегу Пашута не добрела бы до могилы. Добралась она до нее лишь
по весне, когда в лесу еще томились снежные обтаи. Подковыляла к полянке и ахнула: по обе
стороны от материнской могилы вздымались еще два холмика. Аксинья Егоровна лежала не
одна. Такое славное сыскали место, что появились соседи. Но как и кто среди тучных снегов
мог обнаружить ее последнюю обитель?
Удивление Пашуты было настолько велико, что она не выдержала и отправилась к
Стасу. Он вышел к ней мятый, с резко обострившимся лицом из тех, которые несут на себе
весть, совсем больной. "Заболел, что ли?" - от порога спросила она. "Вроде того", - ответил
он.
Прошли опять в кухню. Стас принялся расчищать неприбранный стол, с бряком
сваливая посуду в мойку. Все так же черно и коряво заглядывала в окно яблоня, все так же
терзал ее ветер. В доме было прохладно и неуютно. Пашута не стала тянуть.
- Стас Николаевич, не забыл, как за городом мать мою перед зимой хоронили? -
спросила она, внимательно в него вглядываясь.
- Как же забыть?.. Не забыл...
- Я вчера пошла... и что нашла?.. Рядом с матерью еще две могилы. Целое кладбище.
Целую нахаловку, выходит, мы тогда расчали...
Стас глухо сказал:
- Одна могила Серегина. Чья другая - не знаю.
- Как Серегина?! - ужаснулась Пашута. - Ты что говоришь, Стас Николаевич?
- Убили Серегу, после Нового года. Остался я без товарища. Я и подсказал туда свезти,
к хорошему человеку. Вместе веселей. И себя заказал туда же.
- Кто убил, почему?
- Он в органах работал, - с нарочитым покашливанием, чтобы не выдавал голос
слабость, говорил Стас. - Внедрили его к бандитам в охрану. И сами же выдали на
растерзание. Вот так, Пашута. Такая теперь жизнь и смерть.
Последние слова заставили Пашуту всмотреться в него еще внимательней. Не его это
были слова, не его интонация, какая-то манерная, жалкая.
- Пьешь ты, что ли, Стас Николаевич? - спросила она.
- Пью, - признался он. - Пью, Пашута. - И, округлив рот, со шлепом бил изнутри по
щекам языком.
Она не пожалела его:
- Сильных убивают, сильные спиваются... Кто же останется, Стас Николаевич?
- Кто-нибудь останется...
- Но кто? Ты знаешь их?
- Нет. Все, кого я знаю, не те.
- А где те?
- Я тебе скажу, чем они нас взяли, - не отвечая, взялся он рассуждать. - Подлостью,
бесстыдством, каинством.
Против этого оружия нет. Нашли народ, который беззащитен против этого. Говорят,
русский человек - хам. Да; он крикун, дурак, у него средневековое хамство. А уж эти,
которые пришли... Эти - профессора! Академики! Гуманисты! Гарварды! - ничего страшней
и законченней образованного уродства он не знал и обессиленно умолк. Молчала и она,
испуганная этой вспышкой всегда спокойного, выдержанного человека. Он добавил, пытаясь
объяснить:
- Я алюминиевый завод вот этими руками строил. От начала до конца. А двое пройдох,
двое то ли братьев, то ли сватьев под одной фамилией... И фамилия какая - Черные!.. Эти
Черные взяли и хапом его закупили. Это действует, Пашута! Действует! Будто меня
проглотили!
- Стас Николаевич, да ты оправдания себе ищешь... Не может того быть! Чтобы взяли...
всех взяли! Ты же не веришь в это?
Стас улыбался и не отвечал. Странная и страшная это была улыбка изломанно-
скорбная, похожая на шрам, застывшая на лице человека с отпечатавшегося где-то глубоко в
небе образа обманутого мира.
...На обратном пути Пашута заехала в храм. Впервые вошла одна под образа, с
огромным трудом подняла руку для креста. Под сводами нового храма, выстроенного лет
пять назад, в будний день и в час, свободный от службы, искали утешения всего несколько
человек. В высокое окно косым снопом било солнце, чисто разносилось восторженное
ангельское пение должно быть, в записи, истаивая на круглой медной подставе, горели
свечи. Неумело Пашута попросила и для себя свечей, неумело возжгла их и поставила - две
на помин души рабов Божьих Аксиньи и Сергея и одну во спасение души Стаса.
1995
Сюжет рассказа.
Сюжет рассказа страшен своей обыденностью, несущей приметы нового времени.
Уходит из жизни не прописанный в городе, но умерший здесь человек, а хоронить не на что.
В деревне похороны – «дорога к родителям», а здесь, в городе, - «хождение по мукам» среди
людей, наживающихся на смерти. Пенсия нищенская, а расходы миллионные. Хоть по миру
иди. И пошла бы, да что толку: «Если просить, кланяться, дадут. Те дадут, кому давать
нечего. Ну, а насобираю я, может быть, тысяч сто. А мне сто раз надо по сто». И сломленная
жизнью Пашута, героиня рассказа, решает похоронить мать в лесу, тайно, нарушая издревле
сложившиеся в народе похоронные обряды. Она понимает при этом, что тайные похороны –
воровство, « от которого страдает не собственность чья-то, а сами человеческие устои,
понимает, что «выступила против чего-то слишком серьезного и святого». Что же заставило
героиню рассказа переступить через стыд и совесть? «Как из того, что начиналось тут,
получилось то, что есть»?
Проблемы.
Извечные российские проблемы: человек и государство, цель и средства ее
достижения, цена, которую приходится платить рядовому русскому человеку за
осуществление новой государственной политики, вершится которая «во благо народа», но,
как и прежде, за его счет. Как строятся отношения государства и человека, чем определяется
частная жизнь людей?
Проблемы экологии.
Проблема преемственности поколений. Проблема нарушения традиций и нравственных
норм, передаваемых из поколения в поколение.
Социальные проблемы: обнищания народа, бесправия перед чиновниками,
бедственного положения народа в годы перестройки.
Литература - еще материалы к урокам:
- Рассказы к ЕГЭ по русскому языку: Паустовский "Телеграмма"
- Рассказы к ЕГЭ по русскому языку: В.Шукшина "Старик, солнце и девушка"
- В. Железников. «Чучело». Краткое содержание
- План - конспект "Знакомство с произведением Н. Носова «На горке»" 2 класс
- Урок – игра "«Катится, катится голубой вагон…» Э. Н. Успенский" 3 класс
- Технологическая карта урока "Картины пробуждающейся природы. И. С. Никитин «Утро»" 3 класс