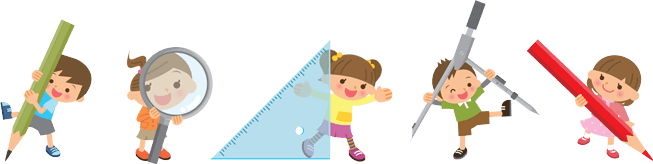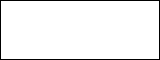Миниатюры о русской литературы (эссе о творчестве Грибоедова, Пушкина, Туренева, Гончарова, Достоевскоо)
ГБОУ Лицей 1533
Город Москва
Миниатюры о русской литературы
(эссе о творчестве А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, И.С.Туренева,
И.А.Гончарова, Ф.М.Достоевскоо, А.Блока, Б.Пастернака, С.Довлатова,
о «лишнем человеке»)
Подготовила
учитель русского языка и литературы
Рогова Наталья Юрьевна
г. Москва
2015 год
К разговору о Чацком с опытом стилизации
(монолог о французике из Бордо в контексте комедии и жизни)
В Россию, к варварам, со страхом и слезами;
Приехал и нашел, что ласками нет конца;
Ни звука русского, ни русского лица
Не встретил: будто бы в отечестве, с друзьями;
Своя провинция. – Посмотришь, вечерком
Он чувствует себя здесь маленьким царьком.
А.С.Грибоедов
Старые, полуистлевшие, потрепанные странички с дневниковыми записями. Все по-
французски, но это ломаный французский, какая-то салонная смесь – без стиля, без настоящего
чувства, «без слез, без жизни, без любви»… Может быть, это и есть история? Вот такой вот самый
обыкновенный дневник самого обыкновенного человека, того, что ведь жил, думал, ел-пил,
выкуривал свою сигару, брал в руки перо, непременно кажется, что большое гусиное перо, долго
молчал, сидя в своем просторном московском кабинете. У него нет телевизора, нет
магнитофона, нет трубки телефонной, а значит, для того, чтобы увидеть «зрелище», надо пойти в
театр; чтобы послушать музыку, нужно узнать, когда в городе будет какая-нибудь своя или
заезжая знаменитость, и попасть на вечер; чтобы голос человеческий услышать, нужно кликнуть
слугу, который поможет одеться, позвать кучера, который заложит экипаж, не перепутать,
сверившись с календарем, у кого из знакомых сегодня приемный или бальный вечер, а потом
только, продрогнув на морозе в карете, попасть в качестве позднего гостя в большой дом с
длинной анфиладой комнат, где кто-то скучает в креслах, кто-то плетет интриги, кто-то занят
карточными комбинациями (или – махинациями?), кто-то танцует, кто-то упражняется в светской
беседе, и приезжий, заскучавший накануне в одиночестве, наверное, легко вписывается в
запутанный узор вечной молвы… А приехав домой, он опять оказывается один, опять сигара,
опять гусиное перо… Хорошо, что я не совсем забыл французский и могу перевести то, что
прочел в старом дневнике того господина, о котором я сейчас столько всего нафантазировал. Я
хочу рассказать об этом дневнике: в нем переплелись искусство и жизнь, история и литература, в
нем повествуется история, которую я уже слышал, будучи школьником, и в которой тогда ничего
почти не понял, а теперь она не дает мне покоя. Да-да, заклеванная до полусмерти белая ворона
тогда из последних сил улетела, но она вернется… Она улетела, но она вернется…
«Декабрь 182.. года. Вчера у меня был бал, чудо какой был бал! Прекрасный ужин,
французская кухня, божественные туалеты дам и барышень – сейчас с Кузнецкого моста! -
все московские тузы в сборе, замечательный вист со старичками, танцы, ах, как забыть
мне! - в вальсе все кружатся!.. Прелестный бал! Я счастлив был, не помнил времени, уж
заполночь вернулся в кабинет, гостей препроводив домой…
Вчера… Был бал… Сегодня – два. Один - у Хворовых – пришелся мне не по душе: музыканты не
умеют сыграть ни одной французской пьесы, дамы старомодно одеты, трое молодых
мужчин вместо того, чтобы ухаживать за барышнями или, на худой конец, составить
партию в висте, затеяли «умнейший» спор, испортили мне аппетит. А между нами говоря,
вы видели бы их: глаза в крови, лицо горит, и «радикальные, - говорят, - потребны тут
лекарства», и, мол, «желудок больше не варит»! Ох, эти мне уж завиральные идеи молодежи!
Одного из компании этой потом встретил я в дому у Фамусовых, куда уехал от Хворовых в
надежде всласть отужинать и посидеть – хоть помолчать – в хорошем обществе - и вот
какой-то там … безумнейший скандал! Никак не взять мне в толк, что ж эдак их рассорило
всех, рассердило! На вид так очень даже, очень было мило!.. А впрочем, хоть и любопытен я,
да всё не углядел, не всё расслышал я, не всюду сунул носа, немного опоздал… Застал момент,
когда мсье Поль (и знатный барин, и почтенный семьянин, солидный старичок, наш клубный
завсегдатай!) – бледны, как смерть, и дыбом волоса – с свояченицей спорят и кричат, о
господи, кричат так! – не до шуток! И он ей говорит, что, мол, четыреста, а Хлестова
твердит, что триста, а он опять – четыреста, а та не унимается, мол, триста, и брани
несть конца! Узнал у Загорецкого, в чем суть, и обомлел: считают души Чацкого – того,
приезжего, ушедшего в отставку, что толку в службе не нашел … четыреста иль триста?..
По мне – так невдомек, чего считать! О нем, об Чацком, ясно всё – он сумасшедший! Мсье
Фамусов – он первый, он узнал, и я, конечно, убедился в этом, я слышал, что он говорил! Как
обругал Москву, и всё из-за какого-то француза, француза, как его бишь там – француза из
Бордо! Наверно, бывшие приятели – француз и Чацкий-то, да что-нибудь не поделили, должок
какой-нибудь… иль барышни… амур… Я был во Франции. В Бордо красиво, хотя немного
диковато, и это, ясно, не Париж… Париж… Боюсь отвлечься… Чацкий что-то говорил о некой
мадемуазель и о китайцах, еще о том, что у него плохой портной – негодный фрак пошил
(там спереди какой-то чудный выем и что-то в нем еще не так), но все-таки, помилуй Бог,
при чем же тут Бордо?! Плохой портной – так выгнать в шею и денег не давать, со мной
такое тоже было, невелика беда! А, между нами говоря, французские портные плутоваты и
очень жадные, весьма!
Я думаю, что вышло так: мсье Чацкий, страстно полюбив какую-то княжну ( не знаю – тоже
из Бордо иль здесь, московскую), самой княжне пришелся как-то не по вкусу, приревновал
француза, которого любили все знакомые княжны, а тут еще портной! К тому ж я понял,
что Чацкий не силен в французском, не знает даже, что не переводится «мадам»! Я
представляю: салон иль бал, ну, где-нибудь в Москве … является мсье Чацкий – в плохо
сшитом фраке, не знает языка, толкует про китайцев, господи прости, про немцев, над ним
смеются, потом увидел, что его любимая княжна с другими всеми в обществе француза, с
участьем слушают красавца из Бордо… В итоге – поврежден в уме! Не диво. Да. И Хлестова
права, что по-христиански – так он жалости достоин, хоть даже если триста душ имеет за
душой. И эдак долго Чацкий говорил, и эдак страстно, я стал искать глазами, какая же
княжна здесь виновата – и не нашел, к тому же очень есть хотел, проголодался, а ужин
позади, уж все танцуют, и даже князь-Петра укачивает в вальсе графиня-бабушка. Ох, этот
князь! А Чацкий – соловьем поет – «Сударыня!», «Китайцы!», «Какой счастье – во всех княжон
вселять участье!»… Наивный юноша – ан – глядь! Уж в вальсе все кружатся с величайшим
усердием. Даже княжнам (наверное, не те) хватило кавалеров – всем. Причем французов не
было, и, может быть, увы!
Прелестная музыка, шуршанье шелка по паркету, и ароматы дивные духов, и блеск
брильянтов, серебра, и колыханье локонов вокруг девичьих лиц и плеч, и вальс, вальс… Я люблю
танцевать.»
О чем же на самом деле говорил тогда Чацкий? Он говорил о том, что Россию пора уже
переименовывать во Францию, так как все исконно русское у нас исчезает из нравов и обычаев,
многие русские дворяне не знают русского языка, «языка скотов», или учат его после
французского; что любой французик – «лишь рот открыл, имеет счастье во всех княжон вселять
участье». Этой болезнью больна вся «толпа», а те, кто не согласен с толпой, оказываются
признанными сумасшедшими, оказываются изгоями, отщепенцами, чужаками. У чужака есть
мысли и этой редкостью, этим сокровищем он хочет поделиться с толпой?! .
- Господа, вальс! Танцевать, танцевать, господа!
И толпа, эти самые умные и никогда не ошибающиеся люди, выбирают из многих
возможных едва ли не самый замечательный способ избавиться от чужака, изгнать его со своей
«территории» - вальс, просто вальс, они выбирают вальс… Вы помните?..
Прелестная музыка, шуршанье шелка по отполированному паркету, дивные ароматы духов,
интригующий блеск драгоценностей, колыханье локонов вокруг девичьих лиц и плеч и вальс,
вальс…
А Чацкий все продолжает говорить – про переводы, про китайцев, он мыслит, и над его
словами нужно задумываться, и они того стоят, но гораздо легче другое – например, построиться
в три шеренги, или моську вовремя погладить, или с тоски твердить весь век на флейте дуэт а-
мольный, или … вариантов так много и все они так похожи друг на друга – как господин Д. на
господина Н. – и самое главное, что любой из них прост; так зачем же мучиться с выбором?
Господа, вальс!
Хотя сам монолог Чацкого к основному сюжету комедии «Горе от ума» имеет весьма
косвенное отношение, но это одна из самых ярких и, может быть, одна из главных сцен. Зачем
она нужна была Грибоедову? Он, великий мастер, создал эпизод, который мог бы быть
отдельным литературным произведением, затронувшим важнейшие проблемы русского
общества. Грибоедову нужна была такая сцена, которая убедила бы читателя в том, что
проблема «человека и толпы» - это важная проблема, что надо что-то менять, что…
Зритель, какой бы он ни был, слушает монолог Чацкого, а потом только оглядывается и
понимает, что «в вальсе все кружатся», читатель тоже, какой бы он ни был, прочитывает монолог
о французике, а потом уже натыкается глазами на ремарку о вальсе. Грибоедов делает слово
великим оружием, даже такое слово, которое кто-то не слышит, не хочет слышать.
Цель, в которую Грибоедов «попал», может быть, случайно, поражена (ведь сейчас всё
французское – это не так уж модно), и проблема смешенья «французского с нижегородским» –
не такая глобальная, как проблема человека и толпы, но ТОЛПА тоже поддалась… Только не так.
Заклеванная до полусмерти белая ворона из последних сил улетала, но она
возвращалась. Заклеванная до полусмерти белая ворона из последних сил улетает, но она снова
вернется – «в Россию, к варварам»…
ЗНАМЕНИТАЯ ПУШКИНСКАЯ ПАРА: ОНЕГИН И ТАТЬЯНА
О Н Е Г И Н
…то злодеем, то ангелом, то мудрецом, то идиотом, то
силачом, то бессильнейшим существом…
Л.Толстой
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?
Уж не пародия ли он?
А.Пушкин
За привычным едва ли не с детства сочетанием «Евгений Онегин» не только для Татьяны
скрывается какая-то загадка. Складывается ощущение, что личность Онегина, чем больше о ней
пишут писатели и говорят говоруны, тем более ускользает от всяких однозначных определений и
эпитетов, как бы ни были они интересны сами по себе. И «эгоист поневоле», и «умная
ненужность», и «лишний человек» – все это звучит как отдельно сыгранные ноты из виртуозного
музыкального пассажа. Противоречивость, окутывающая образ, подобно «английскому сплину»,
помноженная на подчас почти полярно противоположные авторские высказывания в адрес
героя, создает ощущение какой-то неуловимости образа. Можно, конечно, «зацепиться» за
«лишнего человека» – и все станет на свои места, под этот знаменатель можно подвести и
«русскую хандру», и «преданность безделью», и «мечтам невольную преданность» и «резкий,
охлажденный ум», и «опаснейшего чудака», и «доброго малого, как вы да я, как целый свет».
Можно «поднажать» на «эгоиста (хотя бы даже и «поневоле») – благо, здесь тоже не придется
долго мучиться с подбором дежурных цитат («Кто жил и мыслил, тот не может в душе не
презирать людей»).
Самое главное препятствие, которое не позволяет встать твердо под знамена какого угодно
оригинального эпитета при мысли об Онегине, - это та авторская ирония, которая на притяжении
всего романа то цепко «висит на хвосте» у героя, плетясь за ним, «как тень иль верная жена», то
вдруг исчезает или прячется за едва ли не трагической маской полной серьезности. Все время
Пушкин заставляет читателя балансировать на какой-то едва уловимой грани, чувствовать себя
наивной жертвой авторских полуулыбок-полусерьезностей, когда так и невозможно, даже
дочитав роман до конца, понять, например, шутя или всерьез выводил автор сентенции вроде
той, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».
Онегин не разрешает сомнений Татьяны («Кто ты, мой ангел ли хранитель, или коварный
искуситель»); автор не разрешает сомнений читателя, так и оставляя перед нами историю,
которая не может быть воспринята как нравоучительная, морализаторская (ибо она, в сущности,
ничему не учит и не имеет в пределах романа даже сюжетной завершенности, логической
развязки, такой, чтобы можно было сказать хоть, что «сказка – ложь, да в ней намек, добру
молодцу урок»). Роман заканчивается, а главный герой как был жив и даже не женат (что само
по себе необычно для романа), так и остается при тех же картах: выигрыша нет, но и проигрыш
не таков, чтобы означал конец игры. Игра продолжается.
И это ведь не пьеса 20 века в постановке какой-нибудь модернистской труппы, где уместны
действия без видимого смысла, развязки без видимых причин, отсутствие привычных «начал» и
«концов», это не литература абсурда, а роман 19 века.
Переплетением иронии и серьезности по отношению к герою Пушкин задает загадку не
только Татьяне («Уж не пародия ли он?»), но и читателю, и будто бы даже самому себе, и
собственной Музе («Знаком он вам? – И да и нет»). Он всегда узнаваем и никогда до конца не
знаком.
Скрытая ирония звучит уже в имени и фамилии героя. На первый взгляд, они вполне
обыкновенные, но на самом деле – значимые, «знаковые». Ю.Лотман писал о том, что «Евгений
– имя. Означающее отрицательный, сатирически изображенный персонаж, молодого
дворянина, пользующегося привилегиями предков, но не имеющего их заслуг». По его же
замечанию, фамилия «Онегин» образована от названия большой русской реки, что было
«…решительно невозможно в реальных русских фамилиях пушкинской поры», так как большие
реки никогда не составляли в России собственности отдельных лиц и семей. Что же получается?
Имя, которое ведет за собой цепочку явно сатирических ассоциаций, и фамилия, которой
вообще быть не могло! Такое случайно не случается. Здесь будто бы переплетение двух
авторских установок: заявка о праве на иронию по адресу героя, якобы «приятеля автора», его
«странного спутника», и – одновременно – намек на то, что здесь не нужно, нельзя искать
реальность, это своего рода «человек, которого не могло быть».
С каждой страницей романа путаница эта не распутывается, а только нагнетается.
На первых порах Пушкин, казалось бы, «осторожничает» и взваливает груз иронических
уколов на «чужие» реплики, мнения, таким образом, сама ирония возникает как следствие
несовпадения, абсурдности чужого мнения с самим предметом обсуждения:
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего же больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.
Получается, что это «свет» виноват в том, что умение танцевать мазурку, кланяться и т.п. и
есть верное свидетельство того, что герой «умен» и «мил».
Затем снова появляются некие «решительные и строгие судьи», на которых якобы лежит
ответственность за оценку героя:
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.
Но чем дальше, тем откровеннее Пушкин сам становится тем добродушным, но
«решительным и строгим», подчас довольно саркастичным судьей, который недаром (с
одинаковой улыбкой где-то между строк) рассказывает, например, о том, что украшало кабинет
«философа в осьмнадцать лет» (это, естественно, о кабинете Онегина), и о том, что «он пел
поблеклый жизни цвет без малого в осьмнадцать лет» (а это уже – о Ленском). В обоих случаях
природа иронии знакома; в ее основе – принцип несоответствия ( в одном случае – юного
возраста и «поблеклого цвета жизни» как надетой на себя трагической маски, сквозь которую
должен проглядывать здоровый румянец и непотопляемая жажда жизни; в другом случае –
мелочи обустройства онегинского кабинета (все эти «духи в граненом хрустале», «Гребенки,
пилочки стальные», «прямые ножницы, кривые и щетки тридцати родов») слишком
демонстративно оккупировали кабинет восемнадцатилетнего «ФИЛОСОФА».
По мере усложнения романной интриги растет и пропасть между объектом иронии ( а он
сам по себе почти всегда вполне серьезен) и эффектом нарочитого снижения этого объекта, его
почти пародийностью. Чего стоит в этом отношении одно только рассуждение о том, «был ли
счастлив … Евгений». Понятное дело: не был он счастлив, но это бы еще полбеды, ничего тут
удивительного нет, кроме … трактовки причин этого несчастья. По одну сторону иронии –
остывшие чувства, наскучивший шум света, надоевшие друзья, утомление изменами, а по
другую –
«… затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и страсбургский пирог
Шампанской заливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова»
Страсбургский пирог – против вопросов счастья. «Брусничная вода» – против восторженных
песен «a-la Ленский».
Перелистано уже едва ли полромана – и уж кажется, что не будет ничего сказано об
Онегине, что бы ни было тотчас же оговорено полунасмешкой, скрытым или явным сарказмом.
Только начинаешь надеяться на то, что ты, мол, наконец-то все понял в этом человеке, как вдруг
дальше – полная серьезность, отсутствие даже намека на шутку, вдруг – Онегин «без
мадригальных блесток». Это в объяснении с Татьяной, в его реакции на ее чувства. Здесь можно
при желании отыскать поводы для обвинения в жестокости, черствости, эгоизме, но поводов для
иронии – как ни бывало.
… я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней.
Пушкин будто бы играет читательским восприятием, то приближая своего «странного
спутника» к себе (по интересам, склоннностям, чертам характера и т.п.), то отдаляя и суеверно
заботясь о том, чтобы из не перепутали. Автор то раскрывает (или «будто бы раскрывает») героя
перед читателем, то снова прячет за иронией или маской.
На протяжении очень важных с пятой по седьмую глав романа уколы саркастической шпаги
автора достаются кому угодно, но не Онегину.
Казалось бы, чем, например, заслужил обреченный на близкую гибель Ленский такой яд:
И наконец перед зарею,
Склонясь усталой головою,
На модном слове ИДЕАЛ
Тихонько Ленский задремал.
А, однако, заслужил…
И все, что связано с убийцей, таким образом, оказывается на тот момент (и много спустя)
намного серьезнее, нежели все то, что связано с жертвой.
В восьмую главу Онегин вступает тоже вполне серьезной поступью:
… убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.
Здесь и далее – нет идеализации, нет любования героем, но и иронии – всегдашней
спутницы – тоже нет. Снова возникает ощущение, что, наконец, теперь-то уж герой понятен: в
нем многое изменилось, он пережил трагедию, в нем совершился глубочайший духовный
переворот, он познал любовь (теперь уже не юношескую, горячечную, мимолетную, а зрелую и
глубокую); это другой человек, и этот «другой» – настоящий.
Эффект от этого «удаления-приближения», «узнавания-неузнавания» героя получается
приблизительно такой, как от виртуозной пушкинской игры с рифмами:
И вот трещат уже морозы
И серебрятся средь полей…
(Читатель ждет уж рифмы РОЗЫ;
На, вот, возьми ее скорей!)
От Онегина ждут перерождения, а от Пушкина – «добрым молодцам урока». И, казалось,
бы все это есть, но во все этом (по большому счету), как в рифме «РОЗЫ», - снова полуулыбка,
которая так и не смогла оставить героя до конца, хотя и дала ему долгую передышку.
И в самом конце романа, перед тем как расстаться с героем, автор снова рядом с трагедией
ФАКТОВ (отверженная любовь, пустота, отчаяние, вина за убийство Ленского) ставит Иронию
собственной реакции на эту «трагедию», перестающую быть таковой, потому что ТРАГЕДИЯ,
настоящая ТРАГЕДИЯ, требует соответствующего СТИЛЯ. А здесь легкая ирония побеждает
великий трагизм:
Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил!
«Чуть не своротить с ума» – это, воля ваша, не стиль ТРАГЕДИИ.
Выслушав отповедь Татьяны, Онегин стоит, «как будто громом поражен»… И здесь-то, в эту
«злую» для героя минуту, Пушкин расстается со своим «странным спутником».
Онегин на фоне обломков какого-то жуткого крушения нескольких судеб: убитый Ленский,
бессмысленная, ничтожная жизнь, искалеченные судьбы, люди, не нашедшие смысла и счастья,
кроме «привычки», что дана свыше. Финал безрадостный. Однако ТРАГЕДИЯ ли? Посмотрим, что
происходит с «трагизмом» в пределах одной строфы:
…здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго… Навсегда. За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!
Вместо того, чтобы глубокомысленно посетовать на злодейку- судьбу со своим героем,
вместо сострадания к его «трагедии» – «УРА!»
Легкость и волшебство стиха как такового, всевозможные отступления о и ножках и шпорах
кавалергарда, о страсбургских пирогах и щетках тридцати родов, описания природы и разговор о
сравнительных достоинствах аи и бордо, какая-то "«необязательная болтовня"»- все это как раз
то, что "«разгоняет тучи" над настроением романа, не позволяет однозначности трактовок
героев, заставляет подчас просто – любоваться стихом.
Убрать все это – и «…останется трагедия о разбитых и простреленных сердцах. А «Евгений
Онегин» – совсем не то» (П.Вайль, А.Генис). Убрать из текста улыбку, перемешанную с
серьезностью, - и тогда к Онегину можно будет «приклеивать ярлыки: или «злодей», или
«ангел», или «мудрец», или «идиот», или «силач», или «бессильнецшее существо». А Онегин –
если верить Вайлю и Генису – ВСЁ.
ТАТЬЯНА ЛАРИНА
Зачем у вас я на примете?
А.Пушкин
Татьяна Ларина – своеобразный миф, который полтора века назад был создан Пушкиным, а
спустя эти полтора века на основе пушкинского текста миф этот творили критики и читатели,
учителя и ученики в тысячах русских школ, дисциплинированно переписывая в разлинованные
тетрадки джентльменский набор цитат про влюбленность в романы, про русскую душу, про
«милый идеал» и т.п. Если Онегин для большинства читателей выглядит несколько загадочно, по
крайней мере, противоречиво, от образ Татьяны создает иллюзию абсолютной понятности. За
этот образ, как за соломинку, хватается, наверное. Большинство выпускников и абитуриентов на
школьных и институтских экзаменах, ибо, кажется, «к чему лукавить?» Уж о ком – о ком, а о
Татьяне Лариной (с ее незамысловатым характером и печальной историей неразделенной
любви все давно уже известно, и любой тинэйджер на улице в ответ на просьбу что-нибудь
рассказать о Татьяне Лариной, не задумываясь, ответит, что она писала Онегину любовное
письмо, когда не умела «властвовать собой», а потом была «другому отдана» и весь свой век
ему верна, хотя вышла замуж не по любви; превратилась в светскую даму и по-прежнему
любила Онегина. Однажды и навсегда…
Образ этот, как, наверное, никакой другой, настолько хрестоматиен и настолько оброс
«штампами», что тема для сочинения кажется, вопреки иллюзии ее доступности и легкости,
страшно неблагодарной, ибо про Татьяну Ларину все уже давно всё знают. Более того, образ
кажется настолько «знакомым», что, помимо некоего мифа о характере Татьяны, в основе
которого все-таки в значительной степени лежит авторский текст, читателем творятся еще и
мифы, допустим, о красоте героини и о некоторых деталях ее судьбы. В соответствии с этим
читательским мифом, муж Татьяны – СТАРЫЙ генерал, князь, изувеченный в сражениях
«ветеран», в то время как в тексте есть указания на то, что Онегин и «СТАРЫЙ» муж – почти
ровесники. Но, видимо, с точки зрения читателя, это несправедливо: тут нужна
душераздирающая картина именно неравного брака, ибо краски станут – ярче? Гуще?..
Приблизительно та же мистификация произошла и со внешностью Татьяны: Пушкин прямо
говорит о необыкновенной прелести Ольги, а про Татьяну дважды (в начале и в конце) сказано:
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей…
…Никто б не мог ее прекрасной
Назвать...
Но, как пишут в статье «Вместо Онегина» П.Вайль и А.Генис, «вопреки воле автора, у
читателя нет сомнения в том, что Татьяна – томная красавица, а Ольга – здоровая румяная дура.
Законы красивой жизни оказываются сильнее авторского намерения: несправедливо, чтобы
лучшая из героинь мелькнула и упорхнула с безымянным корнетом, а читателю коротать восемь
глав с худшей»
Так родился один из величайший МИФОВ великой русской литературы – миф о Татьяне
Лариной, который имеет, скорее всего, «послеавторское» происхождение.
Для автора центр романа – это, бесспорно, личность Онегина, его ПУТЬ. Татьяна – всё же
(хоть и недалекая), но – периферия, в какой-то степени- зеркало, отражающее духовную историю
главного героя, только в обратной последовательности.
Онегин, хоть и слыл чудаком, но в начале своей жизни строил поведение, выбирал стиль
жизни с подсознательной установкой на то, что это чудачество –МОДНОЕ чудачество, дань эпохе.
В этом Онегин типичен, он дитя света, в котором он вращался; он живет, сверяясь прежде всего
не с литературными мерками (Чайльд-Гарольд, Корсар, Грандисон, Ловелас), а с МОДОЙ.
Отсюда вся внешняя атрибутика («острижен по последней моде, как dandy лондонский одет»), и
внутренний строй жизни («тоскующая лень» и прочее). То есть в Онегине первых глав романа мы
видим, в сущности, ориентацию на «общий знаменатель», моду, стиль поведения общества.
Онегин совершает путь от человека, «как вы да я, как целый свет» к герою-одиночке.
С Татьяной всё происходит «с точностью до наоборот».
Она была оригинальна в деревне непохожестью своей ни на столичных дам, ни даже на
своих провинциальных сверстниц:
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девушкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.
Эти и многие другие строки выделяют Татьяну-девушку из толпы. На ней нет светского
лоска, который ретуширует любую едва заметную оригинальность, если таковая не является
МОДНОЙ. Она искренна в своих порывах, в общении с окружающим миром она не прибегает ни
к каким «маскам»: у нее в девичьем немудреном арсенале их просто нет.
Спустя несколько глав мы встречаем в Москве иную Татьяну, для которой маска стала
почти сущностью. От прежней Тани, впрочем, осталось нечто, конечно, очень важное –
отсутствие вульгарности:
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar (не могу,
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести…)
Всё остальное – сросшаяся с истинным лицом маска: и тон разговоров, и спокойствие, и
равнодушие, и смелость, и «умение властвовать собой». Светская дама. Такая, каких много.
Женщина, загнавшая свои эмоции, свою внутреннюю духовную жизнь в рамки светского раута,
заменившая в полной мере СЧАСТЬЕ – ПРИВЫЧКОЙ.
Во второй главе мы читали о Лариной-матери:
…Она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но, не спросясь ее совета,
Девицу повезли к венцу.
И, чтоб рассеять ее горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.
Такое ощущение, что Пушкин «просчитался», связав такую ценную афористическую идею с
судьбой, в общем, второстепенной героини, потому что это всё без оговорок может быть сказано
о замужней Татьяне восьмой главы. Или, может быть, в этом свой мудрый смысл: так еще
явственнее и глубже становится пропасть, которую перешагнула героиня – от уездной
провинциальной барышни, героини романа и «романов», до общей участи женщины-маски,
маски женщины.
Внутренний дискомфорт, сознание «общей судьбы», судьбы-раута загоняются в угол,
убиваются привычкой.
Татьяна и Онегин начала и конца романа меняются местами не просто в переплетении
любовной интриги. Они крадут друг у друга «необщее выражение лица». Он из героя салонов
превращается в одинокую, почти трагическую «лишнесть», а она – из оригинальной
мечтательности, витающей над грешной землей, не приспособленной влиться в контекст общего
потока жизни, - в существо, полностью соответствующее канонам всегда уважаемого и почетного
comme il faut. Девочка, в детстве никогда не игравшая в куклы, став взрослой женщиной, в
полной мере восполняет этот пробел. С той лишь разницей, что кукла в ее руках – это уже она
сама, княгиня в малиновом берете. К чему тут «игрушки», бури, страсти, любовь, если она уже
«…другому отдана…» и будет «…век ему верна»…
Другому – это даже не столько мужу, сколько – стилю жизни, укладу, привычке,
заложницей которых она становится. Мы помним:
Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете…
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой…
…Татьяна, наверное, тоже помнит, но это «тема non grato». Это – о ней, но будто о ком-то
другом…
Едва ли мы имеем право судить, что мудрее: судьба, предложенная Татьяне автором, или
ее девичьи романтические иллюзии, тем более, что финал романа не окрашен трагически, а
финал жизней, судеб – за рамками романа, в котором живут, страдают люди, одинаково
привыкая к страданиям и радостям. Роман окончен, но герои продолжают жить.
Мужчины и женщины. Тургенев о любви.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине.
1 посл. Коринфянам св. ап. Павла, 13, 4-7
Имейте усердную любовь друг ко другу, потому что
любовь покрывает множество грехов.
1 Соборное Послание св. апостола Павла
Христианство утверждает, что любовь как одна из сфер духовной жизни человека есть
попытка искупления человеческих грехов перед мирозданием. Только в любви человек может
зачеркнуть частичку себя, может отрицать не окружающую действительность, а собственное «я»,
может быть распахнут навстречу другому. В этой работе я попытаюсь подумать о том, насколько
герои Тургенева оказались способны на эту любовь-искупление и почему.
С каким мировоззренческим багажом подходит Базаров к моменту встречи с Анной
Сергеевной Одицовой? На протяжении 20 с лишним лет человек, в сущности, никого и ничего не
любил. Это происходило, очевидно, не только и не столько потому, что он не находил
достойного предмета для своих чувств, а, скорее, потому, что он отрицал в себе и в людях
вообще сам факт возможной духовной потребности в другом человеке, который стал бы для
него настолько близок, что если этому человеку больно, то и в Базарове отзывалась бы та же
боль; если ему радостно, то и Базарову становилось бы от этого немного светлее жить. Вся
сложность духовного мира человека в базаровской теории представала в виде неких
физиологических процессов. Базаров говорит, что никаких «загадочных взоров» не существует:
«Что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие
это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться загадочному взгляду? Это
всё романтизм, гниль, художества. Пойдем лучше смотреть жука».
Отношение Базарова к женщине вообще укладывается в схему чисто физиологических
представлений о мире: «Это что за фигура? На остальных баба не похожа… Посмотрим, к какому
разряду млекопитающих принадлежит сия особа». Эти реплики выглядят циничными, почти
откровенно пошлыми, они словно бы бравируют своей демонстративной грубостью.
Весь мир для Базарова, как в известной идиоме, - своего рода театр, с той лишь поправкой,
что этот театр – анатомический.
Об Анне Сергеевне Одинцовой к моменту ее встречи с Базаровым знаем мы немного. Едва
ли эта женщина, как бы она ни была умна, имела относительно окружающего мира какие-то
теории, она жила довольно бесхитростной жизнью без бурь, без мятежных дум, без страстей,
без слез о былом; она не имела никакой четко выраженной идеи и программы в жизни,
справедливо, в сущности, полагая, что не в этом счастье и назначение женщины. Поэтому
проклятые русские вопросы о том, что делать и как жить, едва ли затемняли ей солнце своими
черными безжалостными крылами. До встречи с Базаровым Анна Сергеевна – это, бесспорно,
«богатое тело», оригинальный любопытный ум и спящая, не разбуженная чувством душа, сама
для себя не ясная, знающая о себе не многим больше, чем тот же едва знакомый с нею Базаров
после двух-трех непродолжительных бесед («Как все женщины, которым не удалось полюбить,
она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя казалось,
что ей хотелось всего»)
При всей несхожести характеров и стилей жизни, Базаров и Одинцова были близки друг
другу тем, что они сталкиваются с любовью как с чем-то абсолютно неизведанным, пугающим,
непривычным, ломающим всю прежнюю жизнь со всеми ее привычками (для Анны Сергеевны)
и теориями (для Базарова). Эта любовь для Базарова отрицает само отрицание любви. Вдруг
оказывается, что в мире есть то, чего якобы не должно быть. Все теории рушатся, оказавшись
мертвыми и безжизненными, пустыми, игрушечными. Весь нигилизм – плод многолетнего
умственного труда, любимое детище Базарова – лопается, как мыльный пузырь, и вдруг
начинает болеть то, что может болеть, когда человек абсолютно здоров, - противоречивая и
непредсказуемая душа. Можно попытаться отогнать от себя этого демона, можно попытать
спрятаться, обмануть Аркадия и отшутиться-откупиться корявыми и беспомощными
каламбурами, но Базаров умен, и самому обмануться – здесь равнозначно попытке убежать от
собственной тени или хотя бы обогнать ее. На месте всей прошлой жизни для этих двух людей
чернеет выжженное пепелище, оставшееся от прежнего опыта, от прежних устоев и
представлений о мире. Вспомним их взаимные откровения, которые были, несомненно,
честными и выстраданными, за которые заплачено очень дорогой ценой отречения от былого:
- И вы находите, что я непогрешительна… то есть что я так правильно устроила свою жизнь?
- Еще бы! Да вот, например: через несколько минут пробьет десять часов, и я уже наперед
знаю, что вы прогоните меня.
Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете остаться.
Для Анны Сергеевны это почти признание в любви, ради которой она,
МОЖЕТ БЫТЬ, согласна пожертвовать своими традициями, а ведь эти традиции были для нее
спасительным залогом безмятежного спокойствия души и тела.
Базаров также отрекается от своих любимых мыслей, которые
исповедовал еще недавно везде, где только находил слушателя:
- Я вас знаю мало. Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек – загадка.
Оба они, мужчина и женщина, вероятно, не очень ясно, но все же представляют себе, на
какой грани стоят; оба понимают, что их мучительные попытки сближения – это еще, очевидно,
не сама любовь, а только суеверно-болезненные шаги ей навстречу. Шаг – и страшно, потому что
это «жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то
лучше и не надо… Главное, надо уметь отдаться». Отдать себя – как это? Это очень страшно.
Оценит ли другой эту хрупкую драгоценность? Страшно, потому что здесь можно делать ставку
только на веру, а знать, рационально понимать, рассчитывать, анатомически проанализировать и
предсказать ничего нельзя. Можно только слепо довериться чужой судьбе, без оглядок и безо
всяких гарантий, не прицениваясь, не торгуясь, не задумываясь о практических выгодах-
невыгодах, о пользе ни для себя, ни даже для какого-нибудь абстрактного «человечества». Ва-
банк. Иначе, пока семь раз будешь мерять, резать уже не захочется.
И они не пошли дальше этой грани, испугавшись не то себя («Смогу ли?»), то ли жизни,
которая предложила за этой чертой полное отсутствие всяких знаний и гарантий, только веру. А
веры этой, очевидно, все-таки нет, если остается смутная потребность какой-то страховки, как у
воздушных гимнастов под куполом цирка.
Конечно, подобные изломы судьбы едва ли остаются бесследными в жизни. Просто их
итогом в этом случае будет, например, не новая жизнь ребенка, который мог бы (или не мог?)
родиться, а тоска. Но тоска, освещенная неким духовным опытом.
Шаги навстречу оказались как бы замершими на полпути, но шаг навстречу постижению
какой-то огромной жизненной тайны, истины был сделан обоими.
Любовь остановилась на попытке стать и быть любовью. Она заявила о своих правах в
судьбах людей, не знавших ее доселе, но «не далась в руки», потому что потребовала слишком
многого, слишком дорогого «выкупа» – веры – и не захотела ничего ЗНАТЬ.
В этой попытке любви герои (и, главным образом, Базаров) становятся чище и выше, она
становится той силой, которая искупила узость и греховность его убогой теории, она доказала
ему, что «если есть тело, должен быть дух», но не дала готового рецепта, что теперь с этим
внезапно осознанным ДУХОМ делать.
Эта попытка любви заставила материалиста Базарова четко осознать, что, препарируя
лягушек, изучая жуков и делая это смыслом, содержанием и целью собственных исканий, может
быть, в конце концов, и можно, грубо говоря, уподобиться жуку и лягушке в своей
примитивности, но едва ли это станет благостной и светлой истиной, достойной человеческих
исканий.
ОБЛОМОВ И ШТОЛЬЦ:
ОПЫТ ФИЛОСОФИИ ПОКОЯ И ХАОСА.
Как будто в бурях есть покой…
М. Ю. Лермонтов
Стрелки часов движутся, совершая таким образом перемещение во времени и
пространстве. Люди рождаются, болеют, влюбляются, воюют, создают и рушат города, пишут
стихи и испытывают ядерное оружие – и движется колесо истории. Если представить себе, что
все вокруг пришло в состояние абсолютного покоя, равновесия, это означало бы конец того
мира, который мы знаем, в котором мы живем. С этим не поспорит даже классическая физика,
она давно выдала второму закону термодинамики все полномочия философской доктрины,
утверждая, что в замкнутой системе (мы вправе подразумевать здесь земную жизнь
человечества) энтропия, то есть способность энергии к превращениям, не может убывать.
Достижение максимума энтропии означало бы наступление равновесного состояния, в котором
уже невозможны дальнейшие превращения, то есть то самое, что мы, собственно, и называем
смертью, концом. Здесь физика предлагает своего рода Апокалипсис, который доступен любому
тинейджеру. Земная реальность жива своей хаотичностью, движением, столкновениями,
превращениями, а покой, каким бы он ни казался заманчивым и привлекательным в фантазиях и
стихах («Я ищу свободы и покоя», например, у Лермонтова), в реальности оказывается
неизбежным законом конца света. Но кроме законов замкнутых систем, есть еще и законы (или
беззаконие) бесконечности. Что происходи там, за порогом земного бытия, мы не знаем. Смерть
(например, смерть Оболомова) – это факт внутри замкнутой системы истории, и эта же смерть,
равно как и суетливая жизнь Штольца, еще не факт для бесконечности.
Судьбы Обломова и Штольца – это судьбы покоя и хаоса, драма которых разворачивается
на двух (как минимум) уровнях: в замкнутой системе привычного мира и с точки зрения
Вечности.
Вся судьба Ильи Ильича Обломова, начиная с порога родительского дома и кончая
существованием в доме Агафьи Матвеевны Пшеницыной, есть попытка ПРИ-МИРЕНИЯ,
безмятежного успокоения, благословения данного Богом порядка вещей. С детства Илюша
подсознательно уже принял установку маменьки о том, что в овраг- нельзя,, в овраге – граница
того привычного мира, который творит повседневная история, там, «говорят, и лешие, и
разбойники, и страшные звери», то есть там то, о чем только ГОВОРЯТ, но чего не знают, там
неизвестность, отсутствие привычного порядка, там – бесконечность. Для взрослого Обломова
«овраг» – это хождение в приказ, хлопоты по устройству имения, визиты к «нужным людям»,
суетливая беготня, там та же неизвестность, потому что в ней невозможно
отличить подлинного человека от маски, реальность от фальши, все спутано, ни у кого и ни у
чего нет собственного места; хаос, там – «другое». Попытки убежать в «овраг» Обломов
совершал и в детстве, и во взрослой жизни, но все они имели один результат: «прибежал к раю,
зажмурил глаза, хотел взглянуть, как в кратер вулкана…но вдруг перед ним восстали все толки и
предания об этом овраге, его объял ужас, и он, ни жив, ни мертв, мчится назад». Из чужого мира
– в свой. Почему после своего знаменитого сна Обломов просыпается в «сладких слезах» - не
потому ли, что в нем быт не противопоставлен бытию, там халату и тапочкам не пришлось бы
воевать с ветками сирени, ведь ветки сирени в Обломовке – это не символы, а просто ветки
сирени, которой положено расцветать и увядать, потому что так природа устроила.
Мир, в котором мы живем, как-то устроен, и Обломову оказывается чуждым все идеи его
переустройства. Все его проекты, от постройки нового дома, планировки комнат до глобальных
замыслов благих деяний ради улучшения жизни крестьян и чуть ли не человечества в целом –
утопия. Им так и суждено остаться проектами не потому, что они так уж бессмысленны и
неосуществимы, а потому что они все – «чужие», они принадлежат не Обломову, а «другим».
Для Обломова страшнее всего чужое, чуждое, растворение в череде «других», ему невыносим
шепот толпы, которая судачит об абсолютно чужом ей человеке: «Некий Обломов женится!». Но
при этом он не превращается в безнадежного эгоиста и человеконенавистника – он просто
любит тот мир, который уже сотворен, который дан, который не нужно переделывать,
перестраивать.
Он любит его бескорыстно, чисто, прирожденно, пронзительно ясно, свято исповедуя
нечто вроде древнего «Noli nocere!» - «Не навреди!». Первая и последняя любовь Обломова –
это не Ольга и даже не Агафья Матвеевна Пшеницына, а нечто изначально данное ( «И сказал
Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и назвал Бог свет днем, а тьму
ночью». Мы помним, что потом: твердь посреди воды, травы, плоды, светила, живность, потом
создал Бог человека по образу и подобию своему – мужчину и женщину – и благословил их. «И
увидел Бог, что все, что он сделал, и вот, хорошо весьма»).
Обломов способен любить и суеверно беречь все, что не противоречит этому Творению,
потому что где-то в глубине души свято убежден в том, что оно действительно «хорошо». Он не
хочет участвовать в строительстве Вавилонской башни, поэтому и сбежать ему хочется, чтобы не
быть погребенным под ее обломками, ОБЛОМками. Вавилонская башня – это прежде всего идея
пределки мира, установка на то, что мир «плох» или, по крайней мере, «недостаточно хорош», а
значит, Божий замысел нужно подправить. Вавилонское столпотворение (творение столпа) есть
начало смешения, хаоса, насильственного сдвига истории. А судьба Обломова – это вечное
возвращение к истокам, в Эдемский сад, который олицетворен для него Обломовкой и домом
вдовы Пшеницыной.
Обломов и Агафья Матвеевна каким-то чудом умудряются, невзирая на все тысячелетние
барьеры, на все заморочки цивилизации и «наш паровоз, вперед лети!», прожить, как Адам и
Ева: около ОЧАГА с его примитивными, на первый взгляд, и нехитрыми приоритетами (дом,
дети, любимая женщина, нежелание вреда ближнему). Где, в каких заповедях сказано, что по
утрам надо ходить в должность, а по вечерам – в гости, читать газеты и ездить на воды, вникать в
городские сплетни и благоговеть перед авторитетами? Какую из заповедей нарушил Илья Ильич,
простивший, в сущности, даже «врагам своим»? Ему ведь ясно было, что Тарантьев и братец
Агафьи Матвеевны откровенно подлы, что эти два негодяя сумели на нем попросту нажиться; но
максимум, на что он оказывается способен, - это указать Тарантьеву на дверь и дать ему понять,
что все их махинации – низость («Не судите – и не судимы будете»).
А все, что касается возмездия, - это уже в компетенции Штольца; для Штольца это своего
рода удовлетворение потребности в «хлебе и зрелищах», у него всегда мастерски получалось
рассудить правых и виноватых, виноватых наказать, а правых похвалить и указать им, как жить
дальше.
Именно в силу своей неприспособленности ко времени, в силу какого-то экзотического
умения жить доисторическими, допотопными (в прямом смысле этого слова) идеалами Эдема
Обломов представляется неким анахронизмом, своего рода ископаемым, которое чудом попало
в 19 столетие, само недоумевает по этому поводу и вызывает недоумение со стороны
окружающих. Обломов «не у дел», «не ко времени», «некстати», потому что все вокруг движется
и меняется, а ему хочется безмятежного покоя и тишины. Среда его обитания – имена
существительные (халат, тапочки, диван, локти Агафьи Матвеевны, смородиновка, сигары, кофе
и т.д.), среди них он чувствует себя привычно и спокойно, «при-миренно».
Главный оппонент Обломова – Штольц – всегда в ореоле глаголов (поехать, хлопотать,
строить, прочитать, проверить, гнать, держать, вертеть, обидеть, видеть, слышать, ненавидеть
…). Его стихия – движение, действие, перемещение, хаос, но хаос не в негативном смысле, а в
смысле вечной изменчивости, текучести жизни. В этом отношении Штольцу гораздо легче
вписаться в людской поток, ведь, в самом деле, кому она и когда нравилась, история как
таковая, и как это можно любить несправедливо устроенный мир?! Испокон веку люди строили
множество теорий, в которых все главные идеи строились на том, что мир плох (нравственно,
эстетически, политически, экономически или по0всякому плох) и нужны какие-то действия в
целях его переустройства.
Штольц ищет созидательного движения, изменчивости, превращений. Для него важна не
Истина, а Путь, и в таком подходе, быть может, своя многая мудрость («Истина есть Путь», -
сказано в Евангелии).
Едва научившись самостоятельно ходить, будучи еще мальчиком, Андрюша Штольц
отправляется в путь (в мир) с наполеоновскими претензиями: хочу все увидеть, все узнать, хочу
заявить о себе. Расставаясь с отцом в юности, в ответ на родительские советы о выборе пути
Штольц произносит замечательную фразу: «Да я посмотрю, нельзя ли вдруг по всем
карьерам». Щтольц не хочет дать себе и миру вокруг застыть, замереть, онеметь в
неподвижности и покое. Куда направлено будет движение, как побегут колеблемые им волны –
это для него праздные, «мятежные» вопросы, на дерзкую борьбу с которыми Штольц обещает
Ольге не отправляться («…мы не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем
трудную минуту…»). То есть как только Штольц оказывается лицом к лицу с бесконечностью,
запредельностью, неизвестностью, с такими сферами, куда ни умом, ни ногами не дотопать, ему
сразу подсознательно хочется затушевать трагизм, обойти острые углы и популярно объяснить,
например, Ольге, что ее грусть, ее томление и порывы за житейские грани – это «лишь расплата
за Прометеев огонь, за дерзкие попытки познавать мир, и нужно не просто терпеть, но еще и
любить эту грусть, уважать сомнения и вопросы: они – переполненный избыток, роскошь жизни
и являются больше на вершине счастья, когда нет грубых желаний…». Убедительно? Да, при
условии, что проклятые, мятежные вопросы задает кто-то, «другой», что они приходят «извне»,
когда они не мучают, а лишь слегка царапают, когда они – «чужие».
Какая бы то ни было остановка в пути для Штольца (то есть состояние покоя) возможна
именно на пороге бесконечности, а все дальнейшие движения его будут направлены уже не за
этот порог, чтобы разрушить границы замкнутого, запертого на замок мира, а обратно, внутрь
круга, в быт.
Налицо парадокс: Обломов, врастая в быт, окунаясь в тишину и покой этого мира,
олицетворяет его конец и своей смертью в нем, своей «лишнестью» в хаосе земной жизни
осуществляет прорыв туда, куда Штольц боится даже взглянуть, - в бесконечность.
Можно ли судить о том, кто из них «прав», если мы не знаем сами ничего о том, что за этим
порогом?
Штольц выигрывает партию за партией в рамках замкнутой системы мира, потому что
поддерживает его хаотичность, бес-покойность, зыбкую и переменчивую мгновенность,
существование во времени и в истории, а Обломов движется лишь постольку, поскольку
движутся Земля и звезды, - опять же в какую-то непонятную бесконечность, даже на фоне того,
что все отдельные человеческие судьбы идут к их земному концу, который будет только одной
из внутренних границ, порогов этой бесконечности.
Она будет мерцать, как «звездная пыль на сапогах», открываться за привычными
«концами», когда не станет Ильи Ильича Обломова, Штольца, Ольги, Агафьи Матвеевны
Пшеницыной, Тарантьева, Алексеева, Захара, Анисьи, даже Андрюши Обломова, когда тихо
закроется последняя страница романа, когда не станет нас, пишущих и проверяющих школьные
сочинения…
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
В РОМАНЕ
Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Бог именно потому и есть, что есть зло и страдание в мире,
существование зла есть доказательство бытия Божия. Если бы
мир был исключительно добрым и благим, то Бог был бы не
нужен, то мир был бы уже Богом. Бог есть потому, что есть зло.
Н.Бердяев
Проблема преступления занимает, в сущности, центральное место в творчестве
Достоевского, который был своеобразным криминалистом. Исследование пределов и границ
человеческой природы приводит его к исследованию проблемы преступления, очевидно,
потому, что в преступлении человек переходит эти пределы и границы. Какую судьбу
претерпевает человек, переступающий границы общедозволенного? Какие перерождения в его
природе от этого происходят? Достоевский задумывается об истоках и последствиях
преступления и пытается познать некую внутреннюю логику, в них заложенную. Человек, с точки
зрения Достоевского, изначально свободен, но эта свобода (на то она и свобода, т.е. у нее тоже
есть как бы разные возможности самовоплощения) может быть благостной, а может быть
губительной. Человек должен идти дорогой свободы, но свобода переходит в рабство, она губит
человека, если он в буйстве своего вольничающего «Я» не хочет знать ничего высшего, чем
человек. Если нет ничего выше человека, то нет и человека. Если Раскольников - сверхчеловек,
человекобог, высшая сила, имеющая ПРАВО распоряжаться судьбами мира по своему
усмотрению, то нет и Раскольникова. Если нет свободы божественной, если просто «все
дозволено» человеку, то эта «человеческая, слишком человеческая» свобода, переходящая в
своеволие, приведет ко злу, зло - к преступлению, преступление - с внутренней неизбежностью -
к наказанию, которое подстережет человека даже в самой потаенной глубине его собственной
природы.
Проблема преступления для Достоевского - это, очевидно, прежде всего проблема того,
все ли дозволено. Существуют ли для свободного человека нравственные границы его природы,
на все ли он может дерзнуть? Кто может «ВСЁ» (творить и уничтожать, судить и прощать)? Бог.
Он всемогущ. Человеку подчас невероятно хочется испробовать на себе этого всемогущества,
хочется быть даже не императором, не шахом и не жрецом, а - по высшим ставкам - божеством.
Хочется примерить не просто шапку Мономаха (тяжела ли?), но и священные ризы, на нимб
вокруг головы своей посмотреть (ярко ли сияет?). А вот терновые венцы, как правило, прочатся
при этом кому-то другому, поэтому неизбежно возникает идея жертвы - иногда более, иногда
менее кроткой, но всегда необходимой спутницы любой теории, имеющей в качестве своей
отправной точки мысль о «сравнении» людей и их «сравнительных» правах на жизнь как
таковую. Пожертвовать собой самому сверхчеловеку? Глупо: на это есть дунечки, сони
мармеладовы, разноликие козлы отпущения всех времен и народов; они не задумываются о
нимбах над головой, они не хотят, не подозревают новой религиозной идеи, ощущая себя
полностью в контексте той, что уже известна почти два тысячелетия и все еще не кажется им
исчерпанной.
Внутренний духовный опыт Раскольникова - это даже в конце ХХ века, спустя более чем
столетие со времени написания романа, все еще прежде всего ВОПРОС о том, где начинается и
где кончается Человек в человеке, всё ли ему «можно», а если что-то «нельзя», то почему
«нельзя» и что будет, если он сам решит, что - при определенных условиях - определенному, не
совсем обыкновенному человеческому экземпляру - «можно», в сущности, даже и то, что
обычно, казалось бы, и «нельзя». Ответ автора на этот вопрос ясен, в нем нет даже
двусмысленности, которая «от лукавого», в нем есть только «да» («да, виновен»). Теория и
действия Раскольникова преступны и наказуемы, это заявлено уже названием романа, эта
истина открывается и ему самому (по крайней мере, в этом нас хочет убедить в конце романа
автор), и другим героям. Ответ же читателя - это уже его собственный духовный опыт, опыт столь
же свободный, сколь и опыт Раскольникова, но обогащенный, быть может, прозрениями
Достоевского.
Вопрос о социальной обусловленности преступления Раскольникова кажется абсолютно
наивным, хотя, как выяснилось, многие и особенно - старые) учебники пестрят утверждениями о
том, что, дескать, это уродства самодержавно-крепостнического строя да социальное
неравенство создают предпосылки для теорий и действий, подобных тем, что описаны в романе.
Формулы типа «среда заела» совершенно неприемлемы для случая Раскольникова, который сам
признается Соне: «... если б я только зарезал из того, что голоден был, то я бы теперь ... счастлив
был!» Получается, что если человек есть лишь какой-то пассивный рефлекс внешней социальной
среды, то и человека-то как бы и нет вовсе. Зло заложено где-то очень глубоко, оно не в
социально-экономической иерархии, а в истоках человеческой природы, в ее изначальной
свободе, в ее отпадении от природы божественной. И существование зла, греха для
Достоевского, таким образом, не опровержение религиозной идеи, а наоборот - ее лучшее
подтверждение, доказательство нужности, необходимости этой идеи в трагической судьбе мира.
Формула, которая раскрывала бы истоки преступления Раскольникова, ничтожно малое
отношение имеет к несовершенству общества и государства, она выводится целиком «из
личности», порабощенной безбожной идеей.
Что за «идея» у Раскольникова? Это прежде всего эксперимент над живой жизнью,
исследование границ собственной природы и человеческой природы вообще. Чтобы стать
сверхчеловеком, избранным и великим, величайшим из людей, нужно зачеркнуть в себе
обыкновенное, человеческое. Требуется доказать теорему: может ли человек с таким сознанием
послужить миру, убить самое ничтожное и безобразное существо, отвратительную старуху,
которая ничего, кроме зла, не причиняет людям? Достоевский убежден в том, что эксперимент
этот не удался не оттого, что Раскольников «сломался», «не дотянул» до «планки», себе
поставленной. Как раз убить человека, в сущности, легко, опыт этот не так труден, но это не дает
самому экспериментатору никакой силы, ничего «великого», «необыкновенного», мирового по
своему значению не произошло оттого, что Раскольников убил старуху, а сам был раздавлен
ничтожеством своего опыта, хотя очень долго, вплоть до последних страниц романа, он
категорически не признавал ложность и преступность идеи. Раскольников долго был убежден в
том, что не теория его несостоятельна и уродлива, а волей он слаб, что нужна какая-то великая
сила, которая должна быть в человеке, чтобы «наклониться и взять» власть над миром.
Ключевое здесь все-таки, очевидно, - «наклониться», то есть, в сущности, пасть. И это как раз то,
что вполне удалось Раскольникову. Значит, он понимает, трезво оценивает даже и теоретически,
что этому «взять» неизбежно предшествует «наклониться», то есть воплотить нечто, что будет
ЗЛОМ. Разрешить «кровь по совести», по словам Разумихина, чтобы потом построить на этой
крови что-нибудь очень красивое, величественное, очень справедливое и доброе. Живое
человеческое существо принести в жертву сверхчеловеческой идее. Живая жизнь ради мертвой
теории. Во имя «дальнего», нечеловечески «дальнего», можно как угодно поступить с
«ближним», с человеком. Тезис этот явно не нов, примеров тому в истории - немеряно, а все же
идея эта, тем не менее, заманчива и притягательна иллюзией грядущего царства
справедливости. Что с того, что есть «дальний», который заповедал любить «ближнего», ведь,
если Я свободен, абсолютно свободен, то почему я обязан верить в то, что идея Бога есть
единственная сверхчеловеческая идея, которая ведет не к самоистреблению личности, а к
познанию мира, смысла. Можно поэтому придумать, логически выстроить и обосновать, в конце
концов, даже выстрадать ее, а потом «... во имя величия сверхчеловека, во имя счастья
грядущего можно замучить или умертвить человека или даже какое угодно количество людей,
превратить всякого человека в простое средство для великой «идеи», для великой цели. Все
дозволено во имя безграничной свободы сверхчеловека...» (Н,Бердяев). А почему не
предположить, что, например, у достопочтенного подлеца господина Лужина, или у
Свидригайлова, или, скажем, у самой Алены Ивановны, призванной в жертвы, тоже были какие-
нибудь своего рода «идеи», более или менее оправдывающие их жалкое существование, их
подлости или ничтожество? Может, они двойники Раскольникова как раз потому, что тоже
претворяли в жизнь какие-то искусно состряпанные теории собственного изготовления, а вовсе
не потому, что позволяли себе много раз совершать то, что «нельзя» обыкновенным людям... Не
очень, конечно, убедительная гипотеза, но все же...
Все сводится к вопросу о том, равны ли все «твари» не в социально-политическом или
экономическим отношении, а в плане равенства перед Богом, равенства дозволенности и
недозволенности. Но, помилуйте, какое равенство перед Богом, если Бога нет, если Бог - это Я?!
И вот для того, чтобы развенчать нового бога, автору понадобилась «вечная Сонечка» с ее
грехами и муками, тоже «преступившая» общие законы, чтобы, наверное, вновь еще сильнее
убедиться в их же непреложности. Не теоретические рассуждения и опровержения автора, как
бы ни были они мудры и авторитетны, а сострадание и любовь живого человека понадобились,
чтобы доказать Раскольникову, что «можно» и что «нельзя». Это она, «обыкновенная» Соня
говорит ему: «Это человек-то вошь?,, Бог тебе опять жизни пошлет... Страдание принять и себя
искупить им надо, вот что надо... Вместе ведь страдать пойдем, вместе и крест понесем». Идея
сострадания для Сонечки - это не идея жалости прежде всего, а идея некоего «со-страдания»,
совместного страдания, разделенного поровну; это как раз то, что она формулирует как «вместе
крест понесем». У Сонечки все мудрствования Раскольникова ассоциируются в первую очередь с
безбожием, а искупление этого безбожия мыслится ею не иначе как «несение креста» в
религиозном и наивно-философском смысле слова. И даже Порфирий Петрович,
олицетворяющий в романе, в принципе, идею земного суда, юридической справедливости, тоже
вынужден, ввиду неординарности своего «случая», оспаривать не столько юридическое
беззаконие, сколько нравственную преступность «идеи» Раскольникова. И Разумихин, и Дунечка
- все они судят в первую очередь «голову» Раскольникова, а не руки, взявшиеся за топор;
поскольку все они понимают в глубине души, что это именно «голова» посягнула на вечные
законы, а руки неумело пролили кровь, словно делая «не своих рук дело», извратив и логику
умозаключений Раскольникова, и вечную логику первой заповеди («Не убий»).
Что же остается человеку, который разрешил себе переступить эту черту? Насколько
дорого стоит идея нового бога, насколько дорого вообще стоит грех? Грешна Соня, и она
наказана многострадальностью своей судьбы. Грешен Свидригайлов, и он, сознавая это, по-
своему сводит счеты с неудавшейся, судя по всему, жизнью, обрывая ее пистолетным
выстрелом; при этом он, наверное, смутно надеется, что таким образом очистится и обретет
покой, а не угол в бане с пауками. Грешен Мармеладов, мучивший домочадцев, и он находит
свое «наказание» в том, что ему «некуда больше идти», и, как следствие, в том, что мучается сам
и погибает, раздавленный лошадью (или жизнью?).
Раскольникову тоже уготована расплата: и муки собственной совести, приводящие его на грань
безумия, духовной катастрофы, изнеможения души и тела; и отчуждение от людей, от тех самых
«близких», которых он хотел было осчастливить; и терзания раздвоенного, противоречивого
сознания; и каторга со всеми ее невымышленными ужасами. Он, естественно, никого не
осчастливил, заставив только страдать себя и людей, которым он был дорог; и самому себе
ничего не доказал, кроме ничтожества своего и своих умозаключений. Он в полной мере
испытал на себе то, что ему грезилось в болезни на каторге. Самый страшный, наверное, из всех
возможных недугов человечества - эта та самая «моровая язва», заражение которой
проявлялось в том, что каждый человек вдруг начинал сознавать себя существом, имеющим
эксклюзивную монополию на знание ИСТИНЫ. Каждый! Все чужие истины, таким образом,
оказываются достойными не просто оспаривания, не просто «сдаются в архив», не просто
отправляются на духовную помойку человечества, а предаются смерти вместе с их творцами-
заложниками. Это уже не картина краха отдельной личности, это конец мира, с неумолимой
логикой следующий в случае, если вдруг все сразу: и Раскольников, и Свидригайлов, и Лужин, и
Наполеон, и Магомет - станут на деле реализовывать свои эксклюзивные права на знание и
утверждение истины.
Но уже убиенная Раскольниковым старуха в другом сне, пригрезившемся ему еще «на свободе»,
безумно хохочет над своим убийцей; он хочет ее убить снова и снова, а она смеется и над
Раскольниковым, и над его топором, и над всем, чего он хочет. Или это жизнь, судьба смеется
над человеком, захотевшим ее обмануть, обхитрить? Смех, безусловно, не «смешной», даже не
«горький», а скорее страшный, но аллегорически вполне уместный. Раскольников хотел наказать
старуху, а старуха, даже мертва, наказывает его самого. Такой смех - едва ли не самая страшная
мука. Многое мог предположить Раскольников в своей судьбе, но, наверное, только не то, что
над ним посмеются...
Парадоксально то, что, в сущности, безнаказанным, по большому счету, в пределах романа
оказывается Петр Петрович Лужин, поскольку сцена со сторублевой ассигнацией на поминках
Мармеладова едва ли сыграла значительную роль в его дальнейшей судьбе, кроме, разве, того,
что она принесла сознание досадной неприятности, разрушившей планы такой заманчивой для
него женитьбы.
Что же получается? Этот примитивнейший подлец, это ничтожество и есть тот самый
«сверхчеловек», судьба которого наглядно демонстрирует победу ЗЛА, не отягощенного
«пустяками» вроде идей об искуплении, страдании, «несении креста»?!
Образ настолько непригляден, прямо, скажем, отвратителен, что автор будто бы хочет сказать:
«Люди, если кто-нибудь из вас захочет стать сверхчеловеком, посмотрите на упитанную и не
потопляемую никакими бурями, «отмороженную» фигуру господина Лужина; вот - ваша участь,
вот удел вашего «сверхчеловечества» в этой жизни. Нравится? Вы хотите дерзнуть, вы не хотите
страдания и кары? Так дерзните - и вы станете ... господином Лужиным. История вашей жизни
будет называться просто: «Преступление». Без наказания»...
«ГРУЗ ТОСКИ МНОГОЭТАЖНЫЙ»
АЛЕКСАНДР БЛОК И СТИХИЯ ГОРОДА
Стихия города – прежде всего стихия замкнутого пространства, ограниченного стенами
домов, уличными тупиками, лучами фонарей, выхватывающими из темноты кусок мира и снова
погружающими всё во тьму. Это чересполосица линий, углов, геометрически однообразных
фигур. Город – это то, что отражает вечность и бесконечность (в конкретике архитектуры, цвета,
форм, стиля, судеб его жителей) и – одновременно – убивает их, так как отражение это подчас
уродливо и неприглядно, тесно и примитивно. Блоку будто хочется разомкнуть пространство
города, порвать замкнутый круг повторяющихся судеб, избежать тавтологии улиц, домов и
жизней, убежать прочь из ограниченного пространства в безграничность и вечность, но он
натыкается вновь на те же перегородки мира и вновь возвращается по старому, уже тысячи раз
пройденному пути. Сначала мелькают перед глазами «улица, фонарь, аптека», а потом «аптека,
улица, фонарь». Немножко сместилась последовательность, но, во-первых, не всегда легко
выпутаться из пут версификации, а, во-вторых, суть осталась той же: возвращение по замкнутому
кругу («Всё будет так. Исхода нет»).
Блок – блудный сын Города, как бы ни хотелось ему вырваться из этого серого сверкающего
огнями фонарей лабиринта.
Урбанистическая стихия враждебна человека: у Города «мертвый лик», «серокаменное
лицо», он «пыльный», «серый», «сонный». И человек в нем – маленький, потерянный, жалкий.
Ах, какой бледный город на заре!
Черный человечек плачет во дворе.
Пространство Города живет во времени и в вечности. И трагедия в том, что Город все более
безнадежно разбивает осколки заброшенной в него вечности и все более жадно впитывает
черты времени.
«ВЕЧНОСТЬ бросила в город оловянный закат», но «… в этот город торговли небеса не
сойдут».
«В пыльный город небесный кузнец прикатил огневой, переменчивый диск»; и свет этого
диска каждый вечер воплощается в желтые огни фонарей – вечных спутников блоковской
лирики, даруя миру лишь неутоляемую жажду света, как жажду чувственности – источник и
боли, и мятежа, и тревоги, и счастья.
Любимая Блоком Флоренция оказывается проклята в стихах. Она – Иуда. Она предала дух
вечного, божественного в себе. Мир в ней замер, застыл, забылся в тяжком сне, мир – УМИРАЕТ.
В нем жизни нет, движения нет, нет пути. И это невыносимо, мучительно. В этом мире движется
всё мёртвое (велосипеды, авто), а всё живое – гибнет.
Мир лишается музыкальности, а те звуки, которые слышатся Блоку в современной
Италии, не несут гармонии, они далеки от музыки – это хрипение автомобилей, звон
велосипедов, «протяжный стон гнусавой массы». Флоренция похоронила Вечность в своих
саркофагах и сама превратилась в кладбище её. Среди наиболее характерных образов здесь –
«трупный запах роз в церквах», «грубый свод гробниц», «гондол безмолвные гроба», «Христос,
уставший крест нести».
Место проклято, так как оно становится рабом времени, беря в заложники Вечность.
Оно превращает культуру в цивилизацию.
Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской жёлтой пыли
Ты предала себя сама!
Звенят в пыли велосипеды,
Там, где святой монах сожжен,
Где Леонардо сумрак ведал,
Беато снился синий сон!
Ты пышных Медичей тревожишь,
Ты топчешь лилии свои,
Ты воскресить себя не сможешь
В пыли торговой толчеи!
Блок проклял «весь груз тоски многоэтажной» в стихотворении «Умри, Флоренция, Иуда…»
чуть не десятком восклицательных знаков. И в конце приговор: «Сгинь в очистительных веках!»
Или – взгляд на Равенну:
…виноградные пустыни,
Дома и люди – всё гроба.
Мрачновато для любимого города, по правде говоря.
Буржуазный миропорядок неприемлем для Блока, может быть, в первую очередь, именно
как городской миропорядок, урбанистический мир (в переводе с французского, впрочем, буржуа
– горожанин, только у Блока этот вполне безобидный перевод обрастает негативными
ассоциациями).
В русском языке слово «город» близко словам «ограда», «огородить» и т.п., и город, таким
образом, становится символом ограниченности, выпадения из бесконечности в замкнутые ниши,
чреватые тавтологиями.
Так, может быть, «всеевропейская жёлтая пыль» умирания не осела на камнях
патриархального отечества?
И действительно, скажем, в цикле стихов о России мы видим, что городской пейзаж там не
частый гость. Напротив, всё больше – реки, дебри, болота, журавли, колдуны, вьюга, пути и
распутья, нищета изб, песни, «плат узорный до бровей», просторы, задебренные лесом кручи,
болотные кочки, стога, снега, вёрсты, поле Куликово и прочее – в основном, то, что никак не
связано ни с каким городом. В стихах о России Блок словно хочет стереть границы, вырваться из
той самой замкнутости, найти дорогу, которая не кончалась бы тупиком; да вот одна беда:
пространство-то, может быть, раздвинулось, но в нем нахально ухмыляется как раз
«бесконечность наоборот», потому что в ней ключевыми становятся слова «опять», «тот же», «та
же», «снова» и им подобные, их много, они становятся лейтмотивами.
Везде слышна музыка узнавания чего-то старого: «…И опять за травой колокольчик
звенит», «Опять с вековою тоскою пригнулись к земле ковыли. Опять за туманной рекою ты
кличешь меня издали», «опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлеи», «а ты всё та
же – лес, да поле, да плат узорный до бровей»…
Словом, «кольцо существованья тесно:
Как все пути приводят в Рим,
Так нам заранее известно,
Что всё мы рабски повторим»
Да и это всё ещё было бы полбеды, потому что в стихах о России эта повторяемость и
неизменность сами по себе никакого негативного груза не несут, а иногда даже наоборот –
какое-то умиление фатальностью всех этих спутников русской идеи; мол, как же, есть у Руси
визитные карточки: узорные платки, да вековая тоска, да острожные песни, да снега, да
просторы, да нищие избы, да дорожные ухабистые колеи – так куда же денешься? Не нами
придумано…
И всё это опять-таки, повторюсь, не беда, вот только жильцами в этой «блоковской» России
– всё больше ведуны, ворожеи, черти, степные кобылицы, чернобровые красавицы, Мамай,
ямщики, царь, Ермак, очи татарские…
Сам автор, чтобы не погрешить против истины, тоже появляется подчас в тех русских
просторах – то в виде князя, возвращающегося к той, кто его «обнимет рукой, оплетет косой и,
статная, скажет: «Здравствуй, князь!», то в виде «мужа» Руси («О, Русь моя! Жена моя! До боли
нам ясен долгий путь!»).
Но как-то всё это… неубедительно, что ли. Может быть, это оттого, что Россия сама по себе в
целом никогда не была аристократична (не в укор будет сказано ни ей, ни Блоку), а Блок,
несмотря ни на что, представляется всё же прирожденным аристократом («В своих мы прихотях
невольны, невольны мы в своей крови»). Этот его аристократизм, наверное, прежде всего – в
бесконечных попытках увидеть вечное в земных приметах.
Сложно представить себе Блока вне городской стихии, хотя стихия эта его и мучила, и
душила однообразием, и давила «грузом однообразной тоски», и отторгала от себя, изгоняла
прочь.
С мирным счастьем покончены счеты;
Не дразни, запоздалый уют.
Всюду эти щемящие ноты
Стерегут и в пустыню зовут.
Блок едва ли молится о том, чтобы очередной кривой переулок увел его «в дымно-сизый
туман», чтобы были размыты и менее бросались в глаза границы мира. Однако границы эти его
так и не отпускают.
Посмотреть творчество последних лет: в «Двенадцати» Блок говорит о том, что «ветер на
всем белом свете», да вот белый свет этот, тем не менее, «сходится клином» – на городе
Петербурге.
Потом «Скифы» – еще одна, в сущности, уже последняя попытка убежать, чтобы уже
возвратиться – навсегда.
Последнее стихотворение «Пушкинскому Дому» говорит о детище Города – Доме искусств
и детище Города – Пушкина.
И последний прыжок – в Вечность – совершается Блоком после того, как он «с белой
площади Сената» поклонился Пушкинскому Дому, «уходя в ночную тьму».
Да, конечно, там, в этом стихотворении, главное – другое, главное – «тайная свобода»,
пушкинское наследство. Однако взгляд Блока, обращаясь перед смертью к тому страшному, что
впереди, цепляется в конце концов за древнего Сфинкса с невского берега, за «бронзового
всадника» (он же – медный). Именно им говорит в стихах Блок свое последнее «прощайте!»
Блудный сын вернулся.
Под шум и звон однообразный,
Под городскую суету
Я ухожу, душою праздный,
В метель, во мрак и пустоту.
Я обрываю нить сознанья
И забываю, что и как.
Кругом – снега, трамваи, зданья,
А впереди – огни и мрак.
Он возвращается, чтобы с городской мостовой, как с трамвайной подножки, сделать затем
свой последний земной шаг в Вечность и в Бесконечность, где никаких городов уже не будет.
Опыт любви.
О стихотворении Бориса Пастернака «Марбург».
Во всём мне хочется дойти
До самой сути:
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, творить,
Свершать открытья.
Б.Пастернак
Часть 1. Опыт Города и Мира.
Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, грёб
По липам. И всё это были подобья.
Площади и улицы старинного Марбурга – «рыцарского гнезда» - с «непроходимым
тростником нагретых деревьев, сирени и страсти» – это путь влюблённого, который
понимает, что он «святого блаженней», хотя ему – отказ; который пытается избежать взглядов,
не замечать приветствий Города и Мира:
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтобы не разреветься.
Близость слёз и блаженство святости, «вихрь духоты» и запах акаций вокруг героя,
«старинные плиты», «когтистые крыши, деревья, надгробья» – беспристрастные, но будто
живые свидетели его путешествия. Герой и Мир рядом, они касаются друг друга, но они чужие: у
них - своя жизнь, у него – своя; они – монументальные, какие-то статичные и напоминающие
древние слепки («... и всё это были подобья»), запечатлевающие свою монументальность в
номинативных или скупых, нераспространенных синтаксических конструкциях. Перемещения и
изменения в картине Мира напоминают замедленные съёмки, когда камера торжественно
запечатлевает средневековую готическую строгость соборов, острыми шпилями прокалывающих
небо:
... Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своём подымалась.
И «каждая малость», подымаясь, становилась всё более далёкой и холодной, и
художественное пространство стиха вновь оказывалось «непроходимым тростником», ибо
герой-путешественник здесь не затем, чтобы быть его зрителем, всё наоборот: мир – зритель,
герой – актёр.
Часть 2. Опыт трагического актёра.
В тот день всю тебя, от гребёнок до ног,
Как трагик в провинции драму шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Таскался пол городу и репетировал.
Б.Пастернак «Марбург»
Трагическая тема отвергнутого влюблённого, пунктиром прозвучавшая в первой строфе (
«Я вздрагивал. Я загорался и гас. Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, - но поздно, я
сдрейфил, и вот мне отказ. Как жаль её слёз...»), отзывающаяся тревожными
аллитерирующими р во всех строках, связанных с драмой любви, превращает эту драму в
Искусство дыханием и полётом «пассажирки-тоски» ( «Тоска пассажиркой скользнёт по томам
и с книжкою на оттоманке поместится») . Мятежный опыт трагедии любви художественно
воплощается в нервные, ритмически неровные, интонационно сбивчивые отрывки внутреннего
монолога и диалога с собой – прежним, в клубок пестрого и запутанного переплетения
воспоминаний, надежд, отчаянья:
Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты ...
О чём ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.
Здесь будто бы кульминация в развитии трагического сюжета, вынесенного «за скобки»
стихотворения: УЖЕ отвергнут. Это в прошлом. Трагедия любви в первой же строфе
стихотворения начинается как будто с классического «пятого акта» ( «Нет, я не пойду туда
завтра. Отказ – полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты.»), а затем развивается трагедия актёра,
переживающего её снова - на сцене. На сцене Марбурга. На сцене Мира.
Часть 3. Опыт Игры.
Я играю с бессонницей…
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.
Б.Пастернак «Марбург»
Бессонница Любви со страстью-свидетельницей в углу рождает Игру, метафорически
уподоблённую шахматам» «на лунном паркетном полу», в которой ставки на кон ставят Утро и
Ночь. И последнего победителя не будет. И потому – не страшно или, скорее, всё равно страшно,
но известно, что бояться - нечего:
Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. Стрясётся – спасут.
Эти страхи пусты.
Ночью – «тополь – король», «ферзь – соловей»; потом - «фигуры сторонятся, я белое
утро в лицо узнаю». Страхи пусты.
Часть 4. Обманчивый опыт рассудка.
...Рассудка?.. «Но он как луна для лунатика. Мы в дружбе, но
я не его сосуд».
Рассудок-друг помогает расставить острые холодные точки в сведении счётов безумной
надежды и отчаяния отвергнутости: «О чём ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.». Но это
сознание – не смерть, не конец. «Пропало» – в жизни, во времени; «нашлось», воскресло,
воплотилось – в стихах, в пассажирке-тоске, в поразительном миноре мелодии звукописи, в
царстве завораживающих метафор и в открытой перспективе глаголов будущего времени,
которое, становясь потом живым, настоящим, не игрушечным, продолжает жизненную
круговерть вопреки вескому, жесткому голосу и опыту рассудка. Будущее оказывается
убедительным, как сгущающиеся сумерки, хотя о нем мы можем только догадываться,
основываясь на бесконечных «подобьях». Но оно – БУДЕТ, это будущее:
Повсюду портпледы разложит туман
И в обе оконницы вставит по месяцу.
И это позволяет всему стихотворению почти незаметно модулировать в мажор.
Часть 5. Опыт Времени.
Что будет со мною, старинные плиты?
Б.Пастернак «Марбург»
Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала, а нынешний жупел –
Насупленный лязг и полет поездов
Из жарко, как ульи, курящихся дупел.
Стихотворение Пастернака – о том, как Время Любви переплетается с Бременем Любви. О
том, как старые плиты Марбурга, где жили Мартин Лютер и братья Гримм, самим
существованием своим ставят героя перед их многовековой тяжестью. И Бремя Любви
становится легче, перерастая в опыт, дарованный Временем, который ставит героя лицом к лицу
с Вечностью, даёт ему шансы чувствовать себя «на равных» с нею, путешествуя от Прошлого к
Будущему.
Часть 6. Опыт рыцарства. Опыт любви.
То «равенство», узнавание «подобий» возможно на пути рыцарства, которому вовсе не
нужны тяжелые доспехи и верные кони: у рыцаря-трубадура есть возлюбленная и шпаги
перекрестных рифм – мужских, острых, как отравленный наконечник ( «гас – отказ», «лоб –
грёб», «сосуд – спасут»), и женских, мягких, протяжных, как замирающий отголосок дрожащей
струны («надгробья – подобья», «плиты – квиты», «предложенье – блаженней»).
Владимир Маяковский считал стихотворение Пастернака «Марбург» лучшими
«мужскими» стихами о любви. О любви, которая всего один раз, и то только в поздней - 1928
года - редакции стихотворения, названа своим именем. В издании 1916 года не было этой
строфы:
О, нити любви! Улови, перейми,
Но как ты огромен, отбор обезьяний,
Когда под надмирными жизнью дверьми,
Как равный, читаешь своё описанье!
Стихотворение Пастернака о том, как нити любви сплетаются в клубок опыта.
Довлатовские чемоданы
Пересмотрите всё моё добро,
Скажите – или я ослепла?
Где золото моё? Где серебро?
В моей руке лишь горстка пепла!
М.Цветаева
Пепел твоих сигарет – это пепел Империй.
Б.Гребенщиков
«Вещи и дела, аще не написанние бывают, тьмою покрываются и гробу беспамятства
предаются, а написанние же яко одушевленни...» Вещи могут многое рассказать о людях, когда
люди берутся рассказывать о вещах. Вещи могут многое рассказать об эпохе, когда эпоха
поселяется в своих обитателях – в вещах и в людях. Содержимое довлатовского чемодана,
собранного впопыхах перед его отъездом в эмиграцию, как и главы довлатовского «Чемодана»,
собранного, написанного уже в Америке в середине восьмидесятых годов, - это история,
прикоснувшаяся к современности и настолько причудливо с ней смешанная, что порой трудно
отличить в содержимом чемоданов (чемодана и «Чемодана») Случайность от Судьбы. История
ироничная, порой горькая, порой смешная, сентиментально-ностальгическая и трогательная, как
История поколения наших родителей.
Чемоданы русских эмигрантов «третьей волны» – осколки оставшейся за океаном
родины, о которой заявлено уже в эпиграфе к повести – в блоковских строках: «Но и такой, моя
Россия, ты всех краев дороже мне».
Александр Генис писал о том, что Довлатов создает уникальную эмигрантскую «сказку»:
каждая вынутая из чемодана вещь рассказывает свою витиеватую историю, вернее, пытается
рассказать, ибо ее перебивают классические авторские лирические отступления, нарушающие
целостность линейных сюжетов отдельных новелл повести и создавая причудливое сочетание
лирики и эпоса, личного авторского голоса и декораций, своего рода музейных экспонатов
эпохи.
И ёмкий, как ковчег, образ чемодана вырастает в повести в символ пересечения советского и
эмигрантского бытия, не переставая в то же время быть просто чемоданом с «приличным
двубортным пиджаком», «поплиновой рубашкой», «зимней шапкой», «шофёрскими
перчатками» и прочими жителями своими.
Содержимое чемодана – не только повод для повествования. Все эти шапки, носки, ботинки и
рубашки, по словам Гениса, одевают героя, как бинты – человека-невидимку: благодаря им он
становится видимым.
Повесть, содержащую в себе несколько новелл, предваряет предисловие автора, в
котором он рассказывает история замысла книги и бросает – пока беглый – взгляд на весь свой
«ноев ковчег» – один-единственный чемодан с вещами, вывезенными из Союза. Большой
фанерный чемодан, обтянутый прорванной в нескольких местах тканью, с никелированными
креплениями по углам, с замком, давнее безнадежной бездействие которого вынуждало
обвязать весь этот ящик бельевой веревкой. Это был тот самый чемодан, с которым, еще будучи
мальчиком дерзко свидетельствовала старательно выведенная чернилами надпись: «Младшая
группа. Сережа Довлатов».
Герою тридцать шесть лет. Его ирония при взгляде на «сокровище» в путах бельевой
веревки сентиментальна: «Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне 36 лет... Один
чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как это получилось?»
Русский писатель у трапа самолета с чемоданом, обвязанным бельевой веревкой... Я не
знаю, есть ли она, такая фотография. Он был потрясающе красив, огромного роста, с
экзотической внешностью, останавливающей взгляды, - этот бывший мальчик из младшей
группы. Мне хочется, чтобы такая фотография была...
Интрига личной судьбы главного героя – это повествование о том, что он «нажил» ( 8
вещей в чемодане – 8 новелл в «Чемодане»), символически переосмысленное им как путь «от
Маркса к Бродскому»: на дне чемодана страница «Правды» с портретом Маркса, на крышке
среди фотографий Армстронга, Лоллобриджиды, поцарапанных ногтями таможенников, - фото
Бродского, о котором на границе тем же таможенникам пришлось объяснять, что это дальний
родственник. Между Марксом и Бродским – «бесценная, единственная жизнь», нахлынувшие
воспоминания, которые таились в складках пестрой груды убогого тряпья ( «Это было всё, что я
нажил за 36 лет. За всю свою жизнь на родине. Я подумал – неужели это всё? И ответил – да, это
всё» ).
Сквозная тема всех новелл – «моя Россия», её темы-спутники – безденежье, странная и
трогательная история любви и семейной жизни героя, талант и ремесло, горкомы партии, Дни
Конституции, мания шпионажа, армия, спекуляция, свобода и Зона, пресловутые русские поиски
то ли истины, то ли забвенья в вине, слезы и смех на советской повседневностью.
Художественный мир повести строится по законам своеобразного взгляда в микроскоп,
разглядывания мелочей, которые рождают цепочки ассоциаций, разбивающих
пространственную и временную скорлупу вещи. Казалось бы, что может быть удивительного в
том, что в старом альбоме своей жены герой находит собственную фотографию? А оказывается,
что при довлатовском взгляде на вещи эта «мелочь» может настолько «вырасти», что «трясутся
руки» и самые простые слова могут стать едва ли не самыми громкими нотами во Вселенной:
«Значит, всё, что происходит, - серьезно».
Точно так же любая самая обыкновенная вещь в потоке воспоминаний хозяина
сохраняющая плоть и раскрывающая душу, рассказывает о пространстве и времени, которые
пересеклись в ней и поселились навеки, как в чемодане... Как в «Чемодане».
В повести Довлатова, как пишет А.Генис, память о вещах создала история, которая от
прошлого сохранила только то, что в неё, в Историю, попало.
Эмигранты рассказывают, что старые чемоданы, вываливаясь из новых кладовок, дольше
многого напоминали им об отъезде. Огромные, помятые, дешевые, они преследовали хозяев,
как русские сны.
Переселившись в книгу, которая мне показалась самой трогательной из всей
довлатовской прозы, такой чемодан стал мне представляться обломком целой мифологии, как
в древности – золотое руно или соляной столп, в который превратилась Лотова жена, когда она
оглянулась туда, куда не велено было смотреть, но её за это и можно любить, ведь это было так
естественно, так по-человечески ... как собирать или разбирать чемодан.
Разбираясь в этом чемодане, пытаясь разобраться в этом «Чемодане», раскрываешь
глаза, приглядываешься и понимаешь, что на нём – и горький пепел многолетнего непризнания
и травли писателя на родине, и совсем не сладкий пепел уже американских, эмигрантских
довлатовских сигарет, и легкий, трепетный пепел Истории, вечности, запечатленности...
ОБ АНТОЛОГИИ «ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА»
- Мне день и ночь покоя не дает
тот лишний человек…
А.С.Пушкин
- Какое ж диво тут?
А.С.Грибоедов
Антология «лишнего человека» в русской литературе тем, помимо прочего, и интересна,
что имеет внутреннюю логику и эволюцию. Есть универсальные приметы, составляющие
основной «тип» этой антологии, есть в ней свои отцы, дети и внуки, есть противоречия и
различия внутри этой исторически сложившейся галереи образов.
Сам термин «лишнести» предполагает возможность довольно широкой трактовки: есть
некая более или менее общая жизнь ( колхоз бытия, стайка воробьиная, социум, в конце концов,
в каком аспекте ни возьми – философском, бытовом, этнографическом, культурном etc), и
внутренняя ее жизнь проходит по определенным законам, а нарушение их в силу каких-то
субъективных причин и есть «лишнесть», выпадение из ряда, отверженность контекстом.
В этом смысле Обломов ею «проквашен» с головы до пят: есть «Я», а есть «ДРУГИЕ», «НЕ-
Я».
«НЕ-Я» - это светская жизнь с ее «обедами, ужинами и танцами» (мы помним: «Что нового
покажет мне Москва?» – а то же самое, что Обломову – в этом смысле – Петербург, от которого
он в стороне, на стороне … на Выборгской, если угодно, стороне…).
«НЕ-Я» – это законы этикета, а как же? Это комильфо. Чацкий бесится от этого («Помилуйте, мы с
вами не ребяты! Зачем же мнения чужие только святы?» etc). Обломова передергивает,
наверное, от всяких пенкинских штучек наподобие «Вы будете бывать?»
«НЕ-Я» – это исторически больной вопрос о службе дворянской. Чацкий «не служит – то есть в
том он смысла не находит». Обломов? Конечно, не служит. То есть в том он толку НЕ НАШЕЛ. А
между прочим, искал ведь, трепыхался над бумажками казенными. И сбежал оттуда (это только
поначалу казалось, что с поджатым хвостом), и не столько потому сбежал, что какое-то там
письмо как-то там заблудилось между Астраханью и Архангельском («дистанция огромного
размера!»), а просто к тому времени уже решил, знал уже, что это все БРЕД.
Между «Я» и «НЕ-Я» – провалы коммуникации, глухота («большой порок!»).
Чацкий – человек публичный – отведав суррогата общения в Москве, уезжает искать, в какой
уголок земли отнести оскорбленное сердце, а если он все-таки умный, если, как он сам
признался, «мечтанья с глаз долой – и спала пелена», если к нему вернулась та память, о
которой можно не жалеть, только будучи «влюбленным, взыскательным и огорченным»,
«память рассудка» - ведь, в самом деле, ну не сумасшедший же он! – та память, о которой
раньше у него заботы мало было ( «А все-таки я вас без памяти люблю»), если он повзрослел за
один день в Москве поболе, чем за три года в цивилизованной Европе, если уж «отрезвился он
сполна», то должен же он вспомнить! Чацкий, милый, вспомните, ведь Вы же говорили сами, что
так хорошо знаете, «где ж лучше»! Лучше - «где нас нет», а где мы есть – мы лишние, где мы
есть – там плохо нам, и остальным – плохо, «мы на родине – в плену»…
Обломов – совсем не публичный Обломов – будучи человеком еще, в общем, совсем нестарым,
даже, скорее, наверное, молодым, выбирает для себя диогеновское затворничество в халате –
«бочке». Его выбор – «минус-история» («Мы могли бы войти в историю, слава Богу, мы в нее не
вошли»), он игнорирует хаос, абсолютно соглашается со своей «лишнестью», мирится с ней и
тихо радуется, что его, лишнего, трогать не будут – глядишь, сам собой притянется к нему, как к
неподвижному центру, какой-нибудь мирок маленький, такой же тихий, такой же для
большинства лишний. Обломов знал, что делает…
С Печориным, Онегиным, Чацким происходит парадокс: чем ближе они пытаются иногда
подпустить к себе людей, себя – к людям, тем очевиднее каждый раз становится пропасть, тем
глубже она, тем непреодолимее ( отчего так - это отдельный вопрос)... Они – блудные сыновья
своей «лишнести»: кажется, всё уже поймут, узнают – а ищут, ищут, мечутся, нападет «охота
странствовать» - жгут лягушечью кожу, карабкаются, стены штурмуют, «мятежные» – бури
просят. А их отливами все дальше и дальше отбрасывает, их берег не принимает. Они этим,
впрочем, гордятся. Гордятся, но долго капризничают: мол, может, здесь – моё? Или – здесь? Или
– там? Да где ж, наконец? Чацкий догадывался. Хоть он и «не отгадчик снов». «Отгадчик снов»,
наверно, Грибоедов, ибо знал, должен был знать, Чацкого усаживая в карету, что карета – только
отсрочка, а «мильон терзаний» - вопрос не места, а времени, а вопрос времени – из
«проклятых», и «нам не нравится время, но чаще – место», наверное, оттого, что этот самый
вопрос места – в жизни более легкий хлеб, в решении его человек много свободнее.
Обломов – родной внук. Он по их, отцовской, дорожке проторенной тоже вроде прошел: Ольга,
сирень, письма, по горкам карабкался, мира руками касался и все дела, но быстро понял, что не
то. Всё не то. С историей так и не помирился. Помирился – со стороной. Пусть – с Выборгской. На
Печорина, на Онегина посмотрел, перешагнул их судьбы (в основном, мысленно) и показал миру
как раз апофеоз «лишнести», ибо на ней успокоился.
Тургенев в этом смысле (как портретист в галерее) оказался, кажется, почти бесплоден: великан
(что, впрочем, само по себе сомнительно) родил двух серых мышей – Лаврецкого и Рудина,
которые наговорили и сделали много нового и интересного, но, как это часто бывает, то, что
было ново – было неинтересно, а что интересно – увы, не ново, - в общем, занимались, как им и
положено, мышиной возней.
P.S. Всяк по-своему думает: “Смотри, Господи, вот мы уходим на дно – научи нас дышать под
водой”…
Список использованной литературы:
А.С.Пушкин «Евгений Онегин»
А.С.Грибоедов «Горе от ума»
И.С.Тургенев «Отцы и дети»
И.А.Гончаров «Обломов»
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»
А.Блок. Лирика.
Б.Пастернак «Марбург»
С.Довлатов «Чемодан»
Литература - еще материалы к урокам:
- Презентация "Модели будущего в русских утопиях и антиутопиях 20 в." 10 класс
- Презентация "Серебряный век русской поэзии"
- Презентация "Интегрированный урок русского языка и математики"
- Презентация "Выбери книгу сам!"
- Конспект занятия "Русская литература на рубеже веков" 9 класс
- Презентация "Мои любимые книги"